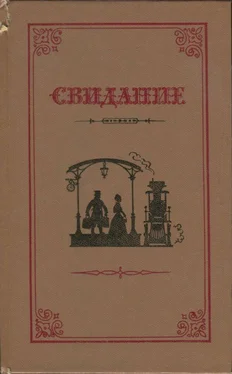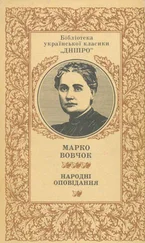— Надёженька? — обратился он снова к дочери. — Что это мамаша не едет? Уж не уехала ли она в Москву?..
— Помилуйте, папа, да maman только сегодня утром поехала…
— Что ж, что сегодня утром?
— До Москвы отсюда в три дня не доедешь…
— Что ж, что не доедешь?
Николай Васильевич как попал на этот оборот речи, так и не сбивался до самого конца.
С Наденькиной матерью и супругою Николая Васильевича Белавина, Катериною Федоровной, теперь отсутствующей в гостях вместе с сыном, я познакомился прежде, именно на похоронах моей тетки. Мне не случалось вдругорядь видеть таких обильных слез, какими она провожала покойницу. В каком-то экстазе отчаяния она припадала к гробу, стараясь как бы насмотреться в последний раз на безжизненный лик, нацеловаться досыта охолоделых и уже посиневших рук… Я полагал, что абсолютная дружба либо самые искренние отношения, связывавшие их, пробудили эту неподдельную скорбь, и был признателен за эти слезы, потому что тетку мою, сухую старуху, оплакивала единственно одна она. Впоследствии, много лет спустя, узнал я, что с тетушкой она не была даже знакома, а только, считаясь прихожанками в одну и ту же церковь, ограничивались кое-какими обоюдными политесами [128] Политес — светская любезность.
. Слезы же эти происходили от чрезмерной чувствительности, коею Катерина Федоровна была наделена от природы. Эта-то самая чувствительность поселила в ней привычку предаваться всему с увлечением, — привычку, которую она сохранила до поры последней возможности для женского возраста. Например, в детстве она с увлечением любила няню, в отрочестве обожала с увлечением русского учителя и читала романы, а там постигло ее домогательство Николая Васильевича, на которого ей указали как на «хорошего человека», и она вышла за этого хорошего человека, тоже не без некоторого увлечения.
На счастье, «хороший человек» был (что бывает весьма редко!) действительно недурным человеком: семенил ножками, раза два в неделю объедался, тщательно зачесывал лысину, перекидывая жиденькие волосики от правого уха через всю голову к левому виску, и решительно ничего не смыслил в политике. Жизнь Катерины Федоровны текла, следовательно, тихо, любо, не срываясь с обычной колеи.
Через несколько лет Николай Васильевич из «хорошего человека» преобразился в несостоятельного халатника и гурмана. Пока на службе была терпимость всякого рода, он забавлялся служением на задних лапках, но когда пошли новые порядки и недостаточно становилось одного красивого с росчерком подмахивания древнедворянской фамилии непосредственно от головного мышления, тогда он счел за благо удалиться и посвятить себя хозяйству: ведь забота о семействе лежит прямо на нем, как на главе!
Образчиком его хозяйства можно взять следующий факт. В конце пятьдесят девятого года, спустя много времени после издания инвентарей, он скупил крестьян для переселения в какую-то отдаленную пустошь. Задумано — сделано: получается известие, что крестьяне дошли благополучно, но тут же объясняется, что крестьянам жить негде, «что, мол, надоть строиться». Как быть? Денег — ни полушки (крестьяне были скуплены на сроки), а сторона тамошняя вдобавок не лесная. Подумал-подумал Николай Васильевич и отправился в английский магазин выписывать для двухсот переселенных душ непромокаемые палатки. Английский магазин охотно верит на векселя и обещается ждать, но не ждет зима! В непромокаемых палатках, несмотря на тесноту, крестьяне мерзнут. «Ces pauvres gens» [129] «Бедные люди» (франц.) .
, — думает Николай Васильевич и посылает переселенцам вновь изобретенные, патентованные переносные печи… Кончается дело вмешательством опеки… Далее Николай Васильевич пускается уже на фокусы: какой-то делец от Иверских ворот берется доказать, что, выдавая векселя английскому магазину, он был не в своем уме ; но ничего не помогло: имения, а в том числе и переселенцы, затрещали. К счастью, Катерина Федоровна вовремя перестала увлекаться мужниными способностями, ежеминутно перед нею разоблачающимися, и взялась за ум: Ненашево уцелело.
Становилось, однако, поздно: Наденька уже раза два зевнула потихоньку, а Николай Васильевич то и дело закрывал глаза. В деревне рано кончается день. Я мигнул Куроедову, тот понял и встал.
— Куда же вы? — спросил старик.
— Время спать, — сказал он, — пора до дому.
— Что ж, что время?
— Завтра рано на работы нужно.
— Что ж, что рано?
Читать дальше