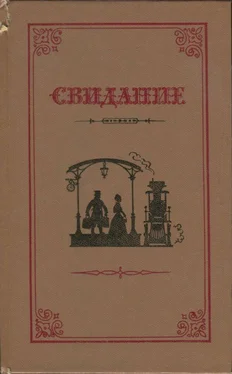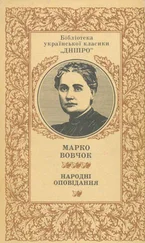— Часто вы у них бываете? — спросил я Льва Николаевича, чтоб скрыть мою невольную усмешку.
— Нет, не часто. Скучно у них… Отец глуп как пробка, а маменька — ханжа… еще сынок у них — балбес порядочный! Носит русские поддевки, а сам дерется с кем ни попало… Вот, разве Наденька… (ее зовут Надеждой)… но это — еще какой-то ребенок! Всегда смеется, всегда весело — точно наследство получает… Меня бесит это всегдашнее довольство! И чему радоваться?.. Впрочем, если хотите, я вас сведу к ним?
Мы закурили сигары и побрели домой. Дорога шла как раз мимо барской усадьбы, но Куроедов свернул в узенький «проход», оставленный по правилам приволжских построек между избами на случай пожара либо прогона скота. Тут, перед невысоким плетнем, примыкающим к крашеной церковной изгороди, он приостановился и, привалясь на него локтями, сказал кому-то:
— Мое почтение!
— Благодарю покорно; здоровы ли? — был ответ оттуда, и голова, с длинными волосами, прилегшими к вспотелому лбу, и волнистою бородой, засеребрившейся уже проседью, высунулась по-над плетнем вместе с мясистою рукой, раскрывшейся для английского shake-hads [123] рукопожатия (англ.) .
.
Это был ненашевский священник, отец Иван.
— Не совсем, — сказал Куроедов.
— Что так?
— Плохо сплю.
— Это всегда, когда ум работает.
— И сердце, — подсказал приятель.
— Одно без другого быть не может, — заметил священник, но, подумав, прибавил: — Не должно быть! — И замолчал.
— Что это вы тут делаете? — спросил Куроедов.
— Капусту обкапывал — червь на нее нынешний год… Да что же я? В горницу милости просим!
Обогнув плетень, мы вступили на небольшой дворик, уставленный разною домашнею утварью и телегою, одна оглобля которой была подперта черной дугой. Две шершавые собаки, гремя цепями, заметались из стороны в сторону и залились оглушительным лаем. В то время как мы входили на крылечко, из низенькой калиточки по другую сторону дома появился и сам отец Иван в длинном казимировом подряснике, позасаленном на животе и на рукавах, и в широком поясе, вышитом шелками и стеклярусом, вероятно, собственноручно какой-нибудь поусердствовавшей прихожанкой. Мы поздоровались еще раз и вместе вошли в горницу, где полная и дебелая, с черными зубами, женщина разглядывала себя в маленькое зеркальце, стоявшее на комоде. Это была жена отца Ивана; ее все звали «матушкой» и никто никогда не видывал без масаковой [124] Масаковая — темно-красного цвета.
повязки и длинных мотающихся серег. Взята она была из купеческого рода и пахла почему-то постоянно камфарой.
— Потрудитесь, матушка (отец Иван и сам называл ее так же), самоварчик поставить, — сказал он ей, когда мы сели.
— Каяшо, — промолвила она, — моячька не пьикажете покедова?
Мы поблагодарили, и она вышла.
Отца Ивана вообще любили, потому, что он не только не отягощал прихожан поборами, выманивая при всяком удобном и неудобном случае, но сам еще, едва проведывал истинную нужду, искреннее горе, спешил с посильною помогой, с утешительным словом. Он говорил разумно, и проповеди его были доступны каждому, оттого что излагались простым, народным языком, оттого что, умалчивая о невозможном идеале, применялись ко вседневной жизни, в которой указывал он на труд и снисхождение.
Строгое запрещение причту пробавляться на селе повело к неоднократным на него доносам епархиальному начальству, и без того не благоволившему к нему с того времени, как он отказался участвовать в гонении старообрядцев, проживающих в губернии.
— Сами посудите, — говорил он однажды, рассуждая о своих неудачах, — за что их преследовать? За что? Не за тою ли статью , что они крепко держатся заповеди, которой учили их сызмала? Они прослухают меня из нужды, уверуют из страха… Поселять сомнение и колебать уже вкоренившееся убеждение? Нелегко, как нелегко вырвать камень из средины горы! А о фанатиках без убеждений и хлопотать не стоит! И что за дело до формы, когда начало — истина!..
Отец Иван, как видят, слишком выдвинулся из общего уровня подобных себе даже и в наше время: он судил жизнь не по одним семинарским толковникам и читал много философских книг, и не одних догматических книг, но учено-психологических и чисто нравственных. Он имел понятие и о Фейербахе и о Фихте. И наружностью внушал он невольное к себе почтение. Войдет неторопливо, приложив руку к груди, помолится на икону и сядет’ расправит окладистую свою бороду, выглянет за окно — и заговорит так же тихо, как войдет.
Читать дальше