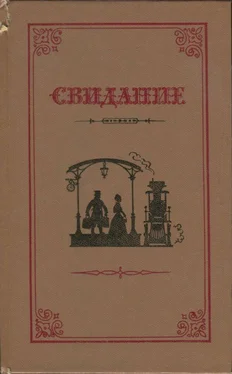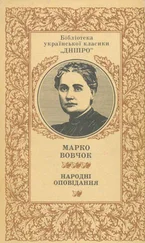— Ну, значит — дура! Полштоф неси, значит.
— А деньги где?
— Так возьми. Завтра, мол, получка будет…
— Не даст. Этот черт-шельмец, хоть убей, не даст…
— Али задолжала? — дразнил ее Василий.
— Есть маненько, — созналась старуха, хихикнув.
— Ну, проворь, а чтоб вино было, потому — я без вина не могу!
Арина пошарила в сенцах, сунула под мышку пустую сткляницу и поползла на село. Василий, переждав немного, вскочил на ноги, потер руку об руку, осклабился и опять развалился на полу.
— Знатно обтимошено дельцо! — проговорил он и ударил кулаком по тулупу, на котором лежал.
Тем временем рассвело совершенно. Волга засеребрилась чешуйчатой рябью, и вся нагорная сторона ее вдруг облилась золотыми лучами выглянувшего солнца. Все зачиликало, зазвенело, зажило вседневною жизнью. Я встал, потихоньку добрался к шалашу, где оставалось ружье, и ушел в лес. Охота в этот день была неудачная. В болоте, которое мне похвалили, дичи почти не водилось: две-три пары гаршнепов да одного засиротелого бекаса — вот все, что я принес. Так-то приходится разочаровываться и во всем остальном — хваленом!
К вечеру, когда я возвращался в город, небо кругом обложилось тучами, и ночь ниспала темная, непроглядная. Ветер так и рвал в поле, так и гнул высокими ветлами, насаженными по большому тракту, словно пытаясь их выворотить с корнем; волны, клубясь и пенясь, бежали одна за другой вниз по реке, вспрыгивали на песок и, отхлынув, росли валами. Издали, со стороны скрывшегося за мраком села, долетал еще кое-когда мерный звук колокола и замирал далеко-далеко над взыгравшейся рекой… Я шел по берегу в том месте, где крестьянские конопляники, прерываясь канавой, завершали и усадебный надел. Далее на обе стороны раскидывалось уже поле — просторное, чистое поле. Я подходил к этой канаве, когда из нее вдруг выставилась чья-то голова, осмотрелась и опять спряталась. Немного погодя опять шелохнулись конопли, кто-то проворно перебежал мне дорогу, перемахнул через низкий плетень и исчез в тени крайнего двора. Потом все пропало и затихло — темно и непогодно — только ветер жутко разрывается на просторе… Там опять мелькнуло что-то, и чья-то тень появилась в ту же минуту на крыше задней закуты, завершенной не тесом, как передняя изба, с которой была в одной связи, а закорузлой соломой, кое-как наметанной и подпертой жердями.
«Уж не тот ли молодец?» — подумал я и окликнул, но, как бы в ответ, он нагнулся, торопливо разгреб пролаз и спрыгнул на чердак. Слышал я еще, как кто-то спросил:
— Ты?
Кто-то сказал: «И где?», но там уже ничего не стало слышно — грянул раскатистый гром, брызнула ослепившая на минуту молния, и припустил такой ливень, что трудно было устоять на ногах. Я прикрыл, как мог, полой ружье, нахлобучил фуражку и стал высматривать приюта. На мое счастье, последовал вторичный удар, озаривший мгновенно окрестность, — и я мог явственно рассмотреть в нескольких шагах от меня бревенчатый новенький сруб с просторным крылечком, который тотчас же узнал. Это был кабак «Березовая грива», где не раз во время охоты приходилось ночевывать, и хозяин был, следовательно, свой человек, хоть и брал всегда втридорога. Но дойти было не так-то легко: кабак стоял на горе, а ноги ехали под гору; подашься на шаг вперед и только утвердишься — шага на полтора съедешь вниз… А дождь так и поливает, ветер так и сшибает с ног… Насилу-насилу добрался!
В закопченной, прогорклой горнице я застал обычных посетителей: сельского дьячка в лаптях и косичке, похожей на мышиный хвостик, того самого Афанасья Кириллыча, что мастерски чинит перья, да осоловевшего мужичка, его, вероятно, закадычного друга. Оба они сидели друг перед другом и молчали. Крохи черного хлеба и обглоданные остовы копченой рыбы валялись перед ними. На столе было налито, около них наплевано. Молчали они с особою любовью и только изредка обводили друг друга мутными, мигавшими глазами. Наконец пономарь решился первый прервать молчание.
— Как погляжу я на тея, — начал он костенеющим языком, — дрянь ты человек есть, право слово! Баба, как взять! Прилунилась беда — он и нюнит! То есть ни малейшей интриги нетути в тее!
— Напасть! — проговорил тот и покрутил головой.
— Напасть? Эка, подумаешь, напасть: жена во люди пошла!.. Да плюнь ты на все это дело, братец, плюнь и разотри! Ну ее к дьяволу; пущай себе шляется, яко в писании сказано: воздадим врагам нашим и отпустим прегрешения.
— Хорошо тее трактовать по писанию-то, потому — не твоя она! Запречь бы тея в эфту сбрую-то, небойсь крякнул бы!
Читать дальше