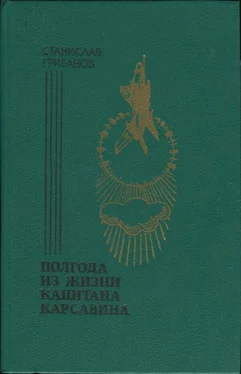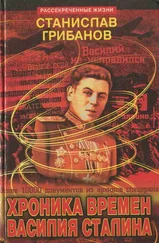— Шире шаг! Шире шаг!.. — кто-то из идущих сзади не слишком любезно подтолкнул ее, и, уже не оглядываясь, Аннушка смешалась с толпой перед храмом Василия Блаженного, чтобы вынырнуть у набережной Москвы-реки.
Там демонстрантов поджидали грузовики, на которые ответственные с красными повязками укладывали медные трубы, барабаны, портреты и знамена. А затем все торопливо расходились к Каменному мосту и Пречистенским воротам, чтобы оттуда добираться по домам — кто в переполненных трамваях, а кто и пешком через весь город.
Аннушка с Виктором тогда разъехались в разные стороны. Она так ничего и не сказала ему о том активисте. Поговаривали, что Гошка — добровольный стукач. Не зря его не любили…
— Младший лейтенант Егорова!.. Егорова!.. — летело откуда-то. Анна огляделась по сторонам, но, никого не обнаружив, поднялась со скамейки и направилась к проходной штаба. — Да скорей же иди! Комиссар ждет…
На собеседование с руководством полка и представителями политотдела дивизии вновь прибывших летчиков вызывали поочередно. О чем там говорили, какие вопросы задавали каждому, — Анна расспросить не успела. Но то, что услышала сама от заместителя командира полка по политической части, который первым обратился к ней с вопросом, откровенно удивило. Батальонный комиссар, болезненного вида человек, бледный, с опухшим лицом и синими губами, спрашивал Анну о жизни: не надоело ли ей жить?..
Анна внимательно глянула на комиссара и тут же решительно заключила:
— Если у вас всегда такой юмор, то советую сменить профессию — на заклинателя змей… А мне жить не надоело! У нас в роду все долго живут.
Батальонный комиссар нахмурился:
— Простите, я хотел спросить, зачем вам подвергать себя смертельной опасности. В последних боях над поселком Гизель мы потеряли почти весь летный состав… Подумайте хорошенько. Да идите-ка лучше в учебно-тренировочный полк. Там вам подыщут место инструктора. Самолет-штурмовик — это не для женщин.
Вот-вот готовая расплакаться, Анна быстро и взволнованно начала припоминать все героическое, что совершили за годы после Великого Октября советские женщины. Затем она принялась перечислять то, чем вынуждены они заниматься на войне.
— Под огнем таскает раненых с поля боя — санинструктор, часами в любую погоду выслеживает из укрытия врага — снайпер. А кто плавит металл? Кто выращивает хлеб, а заодно и растит детей — безотцовщину, получая похоронки на мужа, отца, брата, сына?.. Да скажите, где сейчас легко, товарищ батальонный комиссар?! И время ли делить да искать разницу в делах: это — мужчинам, а то — бабам?..
Комиссар, слушая Анну, достал из кармана какие-то таблетки, проглотил их и, усмехнувшись, замахал руками:
— Ну, хватит, хватит. Вот так точно рассуждает моя дочь. Где-то сейчас под Сталинградом… А была врачом в тыловом госпитале. У вас-то в тылу кто остался?
— Мама.
— А остальные? Семья-то большая?
«Началось…» — тяжело вздохнула Анна, глаза ее вмиг потухли, и поникшим голосом она ответила:
— У мамы когда-то было четырнадцать детей. Все, кто остался из них жив, сейчас на войне…
И тут впервые Анне пришла в голову дерзкая мысль: «Да, она не лукавит перед этим комиссаром! На войне действительно все дети Степаниды. В том числе и Василий… если жив. Анна не сомневалась: где бы ни был сейчас ее брат, что бы ни выполнял, — все будет сделано им на совесть. А разве это не вклад в грядущую победу?..»
— Егоровы, — уже тверже и уверенней повторила Анна, — все на войне!
Батальонный комиссар отложил папку с ее личным делом в сторону и протянул руку:
— Что ж, Егорова, благословляю…
Полк только что получил с завода новые боевые машины, и новичков штурмовой работы вводили в строй на запыленном и доступном всем ветрам аэродроме, что приютился на берегу Каспийского моря. Анну на учебно-тренировочном самолете с двойным управлением вывозил штурман полка капитан Карев. Горбоносый, с насмешливыми глазами, он был отличен от всех. На его тщательно отутюженной гимнастерке всегда сверкал белоснежный воротничок, хромовые сапоги были начищены до блеска, а о брюках галифе с необъятными пузырями в стороны в полку давно складывался непристойный фольклор. Возвращаясь после боя, Карев стряхивал с себя щеткой пыль — ее и в воздухе хватало, — непременно чистил сапоги и только тогда считал, что боевой вылет полностью завершен. На аэродроме знали эту своеобразную точку зрения капитана Карева. «Во время боя, — частенько повторял он, — когда нахожусь кверху задницей, не люблю дышать пылью со своей обуви…»
Читать дальше