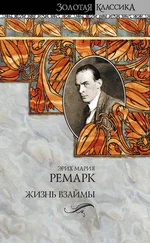Решив так, он вздохнул с облегчением. В Париже он, конечно, позвонит Лилиан, чтобы встретиться еще разок и все ей объяснить. Может, правда, и объяснять ничего не понадобится? Да конечно же, объяснять нечего. Она наверняка сама уже все себе объяснила. Тогда почему он хочет с ней увидеться? Он не стал ломать над этим голову. С какой стати? Между ними считай что почти ничего и не было. Подписав свой контракт, он еще два дня пробыл в Риме. Лидия Морелли отправлялась в Париж в тот же день, что и он. Он поехал на «Джузеппе». Лидия предпочла поезд. Она ненавидела путешествовать на машине, а тем более самолетом.
Лилиан всегда боялась ночи. Ночь таит в себе приступы удушья, незримые руки-клещи, что норовят сдавить горло, неизбывный, непереносимый ужас одинокой смерти. В санатории она с наступлением темноты месяцами не выключала свет, лишь бы не оставаться один на один с мертвенной, холодно-искристой белизной снежных ландшафтов в полнолуние или гнетущей, самой бесцветной на свете, мертвенной серостью тех же снегов в безлунные ночи. Ночи в Париже были куда милосердней. Здесь в окне были река и собор, а тишину мостовой нарушали то нетвердые шаги пьяницы, то шуршание шин и рокот мотора проезжающего авто. Когда ей доставили первые платья, Лилиан не стала вешать их в шкаф, а развесила по всей комнате. Одно, бархатное, висело над изголовьем кровати, а рядом с ним вскоре присоседилось и серебристое, так что ночью, когда какой-то из прежних кошмаров накатом жути кидал ее в пропасть, куда она, давясь застрявшим в горле воплем ужаса, все падала, падала без конца, летя из бездонной тьмы в бездонную тьму, – вот тогда, вскинув руку, она могла нащупать платье и ухватиться за этот бархатный или за этот серебристый спасительный канат, а уж по нему худо-бедно выбраться из бесформенной, гибельной пустоты обратно в четыре стены своей комнаты, во время и пространство, в устойчивость, привычность и жизнь. Она поглаживала эти платья, лишь бы ощутить на ощупь приятную, знакомую ткань, вставала, бродила по комнате, часто нагишом, и ее наряды окружали ее, как надежные друзья, на плечиках они висели по стенам и на дверцах шкафа, а ее туфли, отливая золотистым, каштановым, черным блеском, выстроившись в ряд на комоде на своих высоких, изящных шпильках, напоминали воинство воздушных боттичеллиевых ангелов, ненадолго прилетевших сюда среди ночи помолиться на часовню Сант-Шапель, чтобы под утро снова воспарить и исчезнуть. «Только женщине дано знать, – думала она, – сколько утешения способна подарить малюсенькая шляпка». Сомнамбулой она расхаживала среди своих обновок, любовалась мерцанием парчи в лунном свете, примеряла кокетливый колпачок шляпки, пару туфель, иной раз и платье, в бледной лунной дорожке стояла перед зеркалом, пытливо вглядываясь в свое мерцающее отражение, в свое лицо, плечи, пока вроде еще не поникшие, груди, пока вроде бы ничуть не тронутые дряблостью, придирчиво изучая свои ноги, не подтачивают ли привычную ладную округлость ляжек и икр первые приметы недужной худобы. «Пока что нет, – думала она, – еще нет, и увлеченно продолжала свой безмолвный призрачный парад – другая пара туфель, а к ним теперь вот эта шляпка, которая вообще непонятно как держится на голове, ну и кое-что из немногих ее драгоценностей, посверкивающих в ночи ведьмовскими искорками, и загадочный силуэт в зеркале, – ответная улыбка, ответный вопрос, ответный взгляд, – словно там, в зазеркалье, ему известно гораздо больше, чем ей самой».
Увидев ее снова, Клерфэ просто оторопел – настолько она переменилась. Он ей позвонил – на третий день после приезда в Париж – без особой охоты, хоть и с примесью любопытства, но скорее исполняя мелкую и тягостную повинность и намереваясь просто заглянуть на часок. А остался на весь вечер. И дело тут вовсе не в нарядах, это он сразу смекнул. На своем веку он повстречал немало женщин, умеющих одеваться со вкусом, а уж Лидия Морелли разбирается в дамских туалетах получше, чем любой служака-капрал в шагистике. Нет, дело в самой Лилиан, – переменилась именно она. Две недели назад он расстался с почти еще девочкой, озорным, кокетливым, чуть плутоватым созданием, а теперь вдруг этот подросток, внезапно преодолев таинственные возрастные границы юности, но сохранив все ее обаяние, смотрел на него с загадочной и непостижимой уверенностью молодой и необычайно красивой женщины. И он, твердо решивший с Лилиан порвать, теперь радовался последнему, чуть было не упущенному шансу ее удержать, вернуть. Вдали от нее он, похоже, преувеличивал, а может, просто придумал и внушил себе представление о налете провинциальности в ее облике, смутно ощущая в поведении девушки некий разлад между экстравагантностью манер и робостью повадки и видя в нем задатки истерички. Теперь от всего этого не осталось и следа. Перед ним было пламя, ровное и негасимое, и он знал, какая это редкость. Слишком много попадалось ему на пути тлеющих парафиновых огарков в дорогих серебряных канделябрах, слишком часто доводилось путать истинное пламя чувств с угаром юности, хоть и не чуждым пламени, только пламя это вскоре чахнет под колпачком обыденности и житейских расчетов, – но сейчас, он знал, перед ним нечто совсем иное. Как же он не разглядел этого раньше? И ведь чувствовал даже – а не распознал. Вот так же смотришь на форель, запущенную в слишком тесный аквариум – неловкая, беспомощная, она тычется во все стороны, вздымая муть со дна, вырывая с корнем водоросли. Но стоит отпустить ее обратно в реку, и она, не встречая преград из стали и стекла, не торкаясь в каменистое дно, безудержно резвится в своей стихии, наслаждаясь стремительностью рывков и по течению, и против, переливаясь и играя всеми цветами радуги, что крохотными шаровыми молниями посверкивают на ее серебристых чешуйках.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



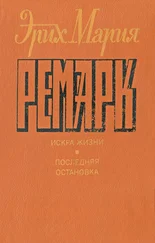
![Эрих Ремарк - Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса]](/books/337777/erih-remark-iskra-zhizni-perevod-r-ejvadisa-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Я жизнью жил пьянящей и прекрасной… [сборник]](/books/430231/erih-remark-ya-zhiznyu-zhil-pyanyachej-i-prekrasnoj-s-thumb.webp)