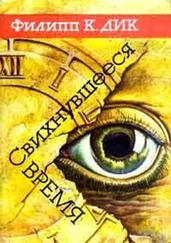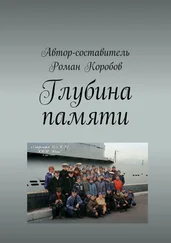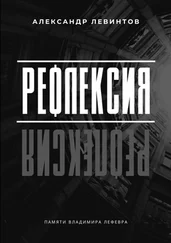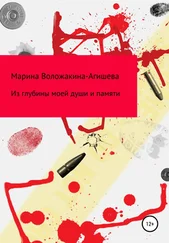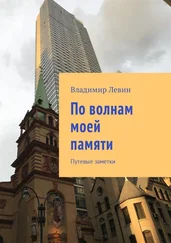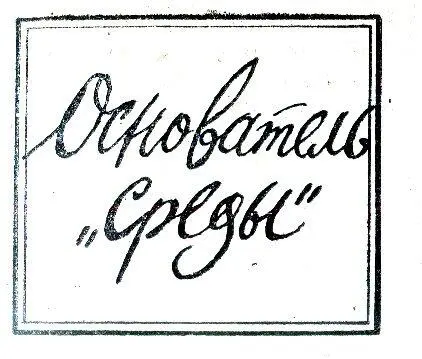 В юные годы я не раз слышал о знаменитых телешовских «Средах», читал сборники «Знание», возглавляемые Горьким, и там встречал рассказы Телешова.
В юные годы я не раз слышал о знаменитых телешовских «Средах», читал сборники «Знание», возглавляемые Горьким, и там встречал рассказы Телешова.
Все это казалось мне чем-то очень-очень давним, ведь все это было до революции, а в 1917 году мне ко дням Великой Октябрьской революции только-только исполнилось шестнадцать лет. В общем, «Среда», «Знание», как говорится, — плюсквамперфектум. В двадцатые годы я весь был поглощен новой литературой — «Двенадцатью», «Чапаевым», «Железным потоком», «Неделей» Либединского, «Бронепоездом», «Сорок первым», «Разгромом», «Цементом», Маяковским, Есениным, «Комсомолией» Безыменского, Николаем Тихоновым, «Конармией», «Хулио Хуренито»…
Уже после Отечественной войны в правлении Союза писателей СССР возник разговор о том, что вскоре — в 1947 году — исполняется восемьдесят лет одному из старейших писателей — Николаю Дмитриевичу Телешову и он ходатайствует об издании своих избранных произведений.
— Он еще жив? — удивился кто-то.
— Жив и еще работает, — сказал Фадеев.
В общем, мне поручили заняться этим сборником, повидаться с Телешовым, перечитать им написанное, составить том. И я охотно согласился.
Не скрою, было прежде всего интересно познакомиться с человеком, который встречался и был дружен со многими уже ушедшими из мира писателями, знал А. Чехова, М. Горького, Л. Андреева, А. Куприна, А. Серафимовича, В, Вересаева, И. Бунина и десятки других русских литераторов конца XIX и первой трети XX века.
Николай Дмитриевич ведал в то время Музеем Художественного театра, и, условившись о дне и часе, я пришел к нему. Взобравшись по крутой лестнице, так как лифта в этом старом доме не было, я невольно подумал: каково каждый день подыматься по ней старому человеку? Но, увидев Телешова, я понял, что он и меня заткнет за пояс. Высокий, худощавый, стройный, он обрадовал меня необычайной живостью движений, быстротой реакций, блеском глаз.
Он работал за большим столом в кабинете. Глаза разбегались от обилия книг, рукописей, разнообразных вещей, имевших прямое отношение к многолетней истории великого русского театра, жизни и творчеству его замечательных актеров. И прежде чем толковать о будущей книге, Николай Дмитриевич с чрезвычайным радушием показывал мне то одно, то другое с подробными пояснениями. И память его, и ясность ума меня изумляли. Конечно, весь он, с его бородой и усами, которые в сороковые годы редко кто носил, с его несколько старомодной речью старого московского интеллигента, принадлежал прошлому, вспоминал о прошлом, перебирал музейные вещи и старые книги и бумаги, но чувствовался в нем живой интерес к нынешнему дню.
Я попросил его, чтобы он сам предложил состав книги и подумал об авторе вступительной статьи. Он сказал, что к его сборнику написал предисловие С. Н. Дурылин, известный критик, театровед, литературовед, и это предисловие ему, Телешову, нравится.
— Пожалуйста, — согласился я, — но, быть может, Сергей Николаевич пожелает дополнить, расширить свою статью?
— Я спишусь с ним, — ответил Николай Дмитриевич.
В связи с составлением сборника, благополучно вышедшего в свет, хотя и не к самому юбилею, я еще несколько раз встречался с Николаем Дмитриевичем, но первое впечатление живости, радушия, ясности ума осталось у меня неизменным. Я постарался во всем пойти навстречу его пожеланиям, чтоб книга его порадовала, чтоб юбилей его не был ничем омрачен.
У меня сохранились два его письма, которыми хочу закончить краткие воспоминания о Николае Дмитриевиче. Первое из них интересно тем, что в нем изложены пожелания Телешова о составе сборника.
Вот оно:
«Уважаемый Федор Маркович.
Посылаю Вам вставку в рассказ «Жулик», а также рассказ «Ошибка барина» для 1-го раздела, если сочтете это приемлемым.
В раздел сказок прилагаю «Мутабор», который можно закончить вылетом мух или довести до «пробуждения».
На всякий случай прилагаю еще «Цветок папоротника», который мог бы идти и в разделе «905 года» или в сказках.
Вот и все мои предложения. Иных не будет.
Если б Вы согласились на предложенное, то, мне кажется, надо бы расположить в книге статьи так:
1. Повести и рассказы
Тень счастья, Сухая беда, Петух, Слепцы, Жулик, Верный друг, Ошибка барина, Доброе дело.
2. «1905 год»
Крамола. Начало конца.
Читать дальше
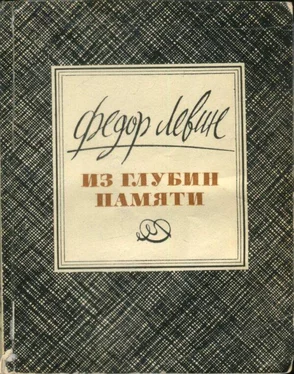
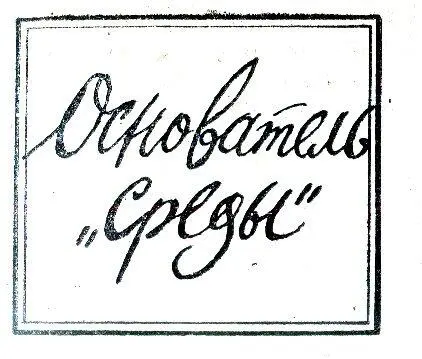 В юные годы я не раз слышал о знаменитых телешовских «Средах», читал сборники «Знание», возглавляемые Горьким, и там встречал рассказы Телешова.
В юные годы я не раз слышал о знаменитых телешовских «Средах», читал сборники «Знание», возглавляемые Горьким, и там встречал рассказы Телешова.