Вот батько Боженко рвет и мечет в страшном горе, узнав о гибели жены. Вот Щорс преподносит ему драгоценное оружие и произносит гордые слова о заслугах и славе Боженко. Вот Щорс после боя, окруженный командирами и бойцами, раненными и перевязанными, говорит с ними о будущем — одна из самых замечательных, кульминационная сцена будущей картины.
Я уже не прерывал Александра Петровича. Радостно изумленный, я только смотрел и слушал. Какой талант раскрывался передо мною! Как певуче звучала в устах Довженко украинская «мова»! Как подымался его голос в лирических и патетических сценах! Должен сказать, что, когда потом я смотрел фильм, он не произвел на меня такого сильного впечатления, как эта игра-показ Довженко в большом пустом кабинете с длинным унылым столом, приставленным к моему столу, образуя вместе букву «Т», с канцелярскими стульями, — в обстановке совсем не вдохновляющей. Может быть, именно в эту минуту я более всего оценил оригинальность мысли и душевную силу Александра Петровича, который так и не успел до конца раскрыть в своих работах того, чем он обладал.
Наконец Довженко кончил, закрыл папку. Мы помолчали.
— Попробуйте поговорить с Д. — сказал я. — Может быть, вы его убедите.
— Попробую, — хмуро ответил Александр Петрович.
Я не знаю, состоялся ли этот разговор или дело уладилось без него. Так или иначе, Довженко забрал сценарий с пометами Д. и уехал. Начались съемки.
Среди замечаний Д. было одно, которое мне особенно запомнилось.
В сценарии была приблизительно такая сцена (излагаю по памяти). После боя, жарким августовским днем, Щорс сидит в хате. У порога присел боец, видимо ординарец.
— Эх, сейчас бы яблочков, — говорит Щорс.
— Будут яблочки, — грубовато отвечает ординарец и, лихо сдвинув набок фуражку, выходит из хаты.
Входят соратники и товарищи Щорса, идет беседа. В разгар ее ординарец возвращается и ставит перед Щорсом глубокую миску с яблоками. Щорс ест и угощает всех, миска мгновенно пустеет.
Замечание Д. сводилось к тому, что ординарец ведет себя вольно, не по-военному, отвечает не по уставу.
Месяца через полтора или два Довженко прислал на просмотр снятые им куски картины, отдельные эпизоды.
Была и эта сцена. Теперь она выглядела примерно так.
Щорс так же сидит в хате, ординарец на лавочке у порога, одет по форме, наготове.
— Хорошо бы достать яблочков, — произносит Щорс.
Ординарец вскакивает, вытягивается, берет под козырек.
— Есть достать яблочков, — гаркает он.
Щорс смотрит на него с удивлением.
— Чего тянешься, — улыбаясь, медленно говорит он. — Опусти руку, не в царской армии.
Бывший на просмотре Д. понял ответ Довженко. Да, в годы гражданской войны было так, из песни слова не выкинешь, историю нельзя модернизировать.
В готовый фильм эта сцена, насколько помню, вошла в прежнем варианте. Новый был и сделан только для ответа.
Много раз после того слышал я выступления Александра Петровича на собраниях киноработников до войны, в сценарной студии, в 1946–1948 годах, где обсуждались сценарии. Оратор он был необыкновенный. Он думал вслух, вовлекая слушателей в ход своих мыслей и рассуждений, говорил убежденно и страстно.
Последний раз я встретил Александра Петровича возле Центрального Дома литераторов. Я вышел из дверей на улицу Воровского, Довженко ходил возле ворот, задумчивый. Волосы его поседели, на лице прибавилось морщин, он был утомлен, и еще больше горечи скопилось в изгибе скорбного и упрямого рта. Мы поздоровались. Недавно вышел на экран его фильм о Мичурине. Я поздравил Александра Петровича с большим успехом картины, он не дослушал, махнул рукою:
— Если б вы знали, Федор Маркович, как много мне в нем испортили.
Из ворот вышла машина. Он ее и ожидал. Мы попрощались, он сел. Хлопнула дверца, и мимо меня проплыла его красивая седая голова.
 Я был уже взрослым человеком, но очень мало знал об Алексее Николаевиче Толстом.
Я был уже взрослым человеком, но очень мало знал об Алексее Николаевиче Толстом.
Ко времени Февральской революции 1917 года мне еще не было шестнадцати лет. Круг моего чтения составляли книги, увлекавшие подростков того времени, — Дюма и Конан Дойл, Стивенсон и Буссенар, Майн Рид и Жаколио, Вальтер Скотт и Джек Лондон и журнал «Природа и люди»… Кроме того, я читал, конечно, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого и других классиков, а также собрания сочинений — приложения к «Ниве», из них мне особенно нравился тогда Куприн.
Читать дальше
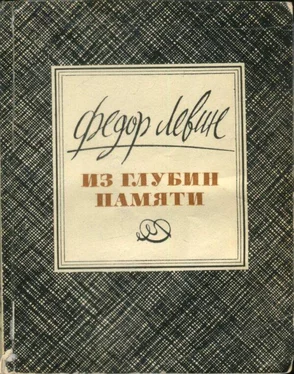
 Я был уже взрослым человеком, но очень мало знал об Алексее Николаевиче Толстом.
Я был уже взрослым человеком, но очень мало знал об Алексее Николаевиче Толстом.








