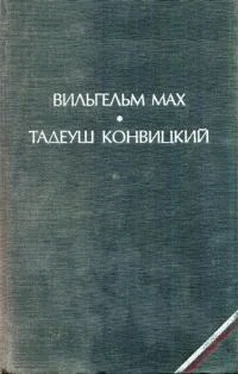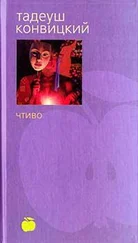— Вот именно, — ответил партизан. — За это я вас и осуждаю. Если бы ты сидел на мешке с деньгами, как воевода, если бы с любовницами в ресторанах стрелял в зеркала, если бы ты строил для себя дворцы, так я по крайней мере мог бы надеяться, что и мне от тебя что-нибудь перепадет. Разве это нормально, чтобы у министра голая задница просвечивала, как у меня? Нет, дяденька, у такого строя нет будущего.
— Ты поосторожнее со строем. Я еще не забыл, что ты служил у Гунядого.
— Но я ведь явился с повинной, когда было нужно, нет разве?
— Ты оставил его без всякой помощи в одних подштанниках посреди зимы. Легализовался потому, что вы у меня в руках были.
Партизан побледнел и несколько раз стукнул протезом по столу.
— Вовсе он не один остался. При нем еще был целый взвод.
— Знаю я вашу волчью солидарность. Почему же ты скрываешь, что был у Гунядого?
Партизан вдруг встал из-за стола.
— Я никогда никого не предавал, слышишь, убек [4] Так во враждебных народной Польше кругах называли работников Управления безопасности.
? Я ушел тогда, потому что таков был приказ из Лондона. Кто хотел, мог возвращаться домой.
— А тебя потом Гунядый не искал?
— Он тебя до сих пор ищет. Почему ты не ночуешь у себя дома?
Пани Мальвина схватила партизана за пиджак и потянула, заставив снова сесть на стул.
— Господа хорошие, зачем же вы сразу про политику? Политика никого еще до добра не довела. Ильдечек, дитя мое, спой лучше что-нибудь.
Ильдефонс Корсак, очнувшись от глубокой задумчивости, потянулся за полным стаканчиком.
— Ах, не то, болезный мой, лучше спой гостям.
— Почему нет, могу спеть, но только по-русски.
— Боже ты мой, неужели ты других песен не знаешь?
— Нет.
— В разных армиях служил, свет божий повидал, а петь умеешь только по-русски?
— Все песни красивые, но русские самые лучшие, — упрямился пан Ильдефонс.
— Чего там тратить время на песни, — засуетилась пани Мальвина, видя, что брат ее готовится к сольному номеру. — Давайте выпьем.
— Ну, будем здоровы, — произнес путевой мастер не своим, раскатистым голосом.
На мгновение разговоры затихли, и как раз тогда хлопнула калитка. Кто-то быстро бежал по двору. Сержант Глувко, еще не успев проглотить первый стаканчик, схватил с подоконника шапку и с необычайным проворством спрятался за буфет. В комнату ворвались дети, мальчик с девочкой, и остановились, ослепленные светом лампы.
— Папа здесь? Мама велела ему сейчас же возвращаться, — сказал мальчик, с понимающим видом оценивая легкий беспорядок на столе.
Никто не решился ему ответить, все беспомощно переглядывались. Наконец пани Мальвина, видя, что ситуация становится критической, сказала, сладко улыбаясь:
— Отец ваш сюда не заходил. Вероятно, он еще на службе, бедняга. — И тут она страшнейшим образом поперхнулась то ли наливкой собственного изготовления, то ли просто от смущения.
Дети нерешительно потоптались и, провожаемые лицемерными улыбками взрослых, исчезли в темных сенях, через секунду уже слышен был стремительный топот их босых ног.
— Мерси, — печально сказал сержант Глувко, вылезая из-за буфета. — Боже, боже, какой позор. От собственных детей прятаться по углам. Эх, сивуха проклятая.
Он с покаянным видом вернулся к столу и потянулся за полным стаканчиком.
— Ну, будем здоровы, — сказал путевой мастер, четко выделяя каждый слог. И осторожно влил водку прямо в горло, со своеобразным шиком, так чтобы не двигался кадык, что считалось вульгарным в здешнем обществе, и, высоко вскинув голову, на мгновение прищурил глаза. Потом медленно открыл их, опустил голову и громко выпустил воздух. — Спасибо за угощение, — продолжал он, низко поклонился всем присутствующим и заодно поднял с пола свою фуражку. — Люблю я этак пропустить три, четыре рюмашечки. — Его качало из стороны в сторону; не без труда определив нужное направление, он резко рванулся к выходу.
— Быстро он скис, — бесстрастным тоном заметил партизан.
В сенях зазвенели какие-то жестянки. Пани Мальвина снисходительно улыбнулась.
— В ванную забрел.
— Неважно, попадет куда надо, — сказал граф Пац. — До ночи он еще хлебнет в одиночку, подправит дело.
Ильдефонс Корсак, все время внимательно наблюдавший, как со стола стекает огуречный рассол, вдруг запел грудным голосом:
Пароходик идет всеми па́рами…
— Цыц, — зашипела пани Мальвина, — да ты что, чокнутый? Матерь пресвятая, он, видать, снова хворенький. У него кишочки, как у окуня. Чуть выпьет рюмочку, на него сразу мистика находит.
Читать дальше