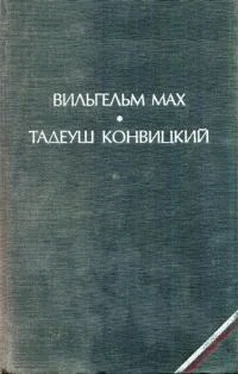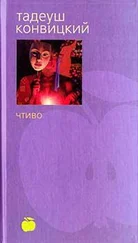— Я тебе все сказал. Правда, потом сложили целую легенду, и до меня дошли слухи, будто это был не мальчик, а переодетая девочка, и ее отец, значит, этот профессор, до конца оккупации ходил по деревням, искал свою дочку.
— Как ты думаешь, Старик, что от нас останется?
— Вероятно, кто-нибудь выживет и напишет неправду, а можно сказать и так: напишет ту правду, какую ему хотелось бы найти в воспоминаниях молодости.
— А что ты будешь делать после войны?
— Не знаю. Но будничное, бесцветное существование вести не хочу.
— Я тоже так думаю. Ведь мы уже видели все, что в этом мире можно увидеть. Для нас теперь только: пан или пропал.
Темнеет. Снег стал совсем серый. Слышно, как лают собаки. Тихий, что ни шаг, вздыхает. Это его обычная манера: ведь он твердо верит, что, если будешь плакаться и жаловаться на судьбу, она тебе в конце концов улыбнется.
— Ночь будет беззвездной, — говорит Сокол.
Тихий втягивает носом морозный воздух.
— Едой пахнет, горячими клецками. Пора уже. Скоро сядут за стол.
— Сколько дней у вас празднуют? — интересуется Сокол.
Тихий задумывается, прислушиваясь к скрипу снега.
— Смотря кто. Бедные хозяева — четыре, самое большее пять дней. А богатые — недели две. До дня Трех волхвов дотягивают.
— А у нас от всех праздников только пост остался.
— Я не возражал бы против такого поста: горячая картошечка, подливка, семечки жареные с солью и хлебный квас. Ты знаешь, как это вкусно?
Сокол не знает, но вздыхает, соглашаясь. Чаща уже позади. Теперь мы проходим мимо куцей молодой поросли да ажурных рядов ольшаника. Изредка где-то на сплошном черном фоне мигнет далекий свет кривого окошка.
— Мы словно колядники, — замечает Муся.
— Да, колядники, — повторяю я и нащупываю в кармане листок, который дал мне Корвин.
— Пусто. Никого не видно на дороге.
— Кто в такой вечер выйдет из дому? Это ведь грехом считается.
— Если сегодня задумаешь желание, в будущем году исполнится.
— Ладно, задумал.
Она снова просовывает ладошку мне под руку.
— И что же ты загадал?
— Больно ты любопытная, начальница.
— А ты меня не стесняйся, Старик.
— Далеко еще?
— Что далеко?
— Сама знаешь.
— Надо дойти до железной дороги. Потом с километр по путям. А я хочу быть самой красивой, самой богатой и самой обаятельной. Чтобы все меня любили. Но этого я не стану загадывать, Старик.
— Ты очень еще молода, начальница.
— Я попросту женщина.
— Мне это известно, начальница.
— Откуда ты можешь знать, щенок.
Она резко останавливается. Я тоже вынужден остановиться, меня удерживает ее рука: Муся не успела ее выдернуть. Мы стоим, отгороженные друг от друга толстой стеной кожуха. Я чувствую, как меня согревает тепло, вызванное любовным желанием. У нас обоих изо рта валит густой пар, за его клубами я вижу насмешливо прищуренные Мусины глаза и обросшие инеем ресницы.
— Ты еще невинный, я говорю точно, женщина это сразу угадывает.
Она прижимается кожухом — тем местом, где у нее грудь, — к моей шинели.
— Ну что ты загадал, признавайся, щенок.
— Загадал, чтобы быть мне самым умным, самым хорошим и чтобы все женщины меня любили.
Она долго смотрит на меня, потом прячет глаза за белыми ресницами.
— Хотелось бы мне встретиться с тобой когда-нибудь уже после войны.
— И мне хотелось бы с тобой встретиться.
— Одни это разговоры, Старик.
Мы неуклюже прижимаемся друг к другу, насколько позволяет наша затвердевшая, промерзшая одежда.
— Нет, правда. Я искренне сказал, — шепчу я.
Она молчит. И мне вдруг кажется, будто что-то темненькое, вроде божьей коровки, ползет вниз по ее разрумяненной морозом щеке.
— Ласточка, что с тобой? — тихо спрашиваю я, смущенный таким оборотом дела.
— Нет, ничего. Просто, дурацкий вечер.
— Муся, я по правде…
— Ну ладно. Ничего больше не говори.
Она выдергивает руку и украдкой проводит ею по щеке, словно смахивая звездочку снега.
— Я и сама не понимаю, что со мной случилось, — смеется Муся, заслоняя лицо рукой. — Глупо все это. Почему мы стоим?
Мы готовы двинуться дальше, но Сокол нас удерживает. Они оба с Тихим отогнули воротники и прислушиваются.
— Что еще? — спрашиваю я.
— Слышно, как сани едут. Везут парней Кмицица.
Нагнувшись, мы долго всматриваемся в темноту. Тихий спускает предохранитель автомата. Но из этой гнетущей тишины вырывается нечто напоминающее приглушенный расстоянием стон.
— Коляду где-то поют, — говорит Муся. — Деревня неподалеку.
Читать дальше