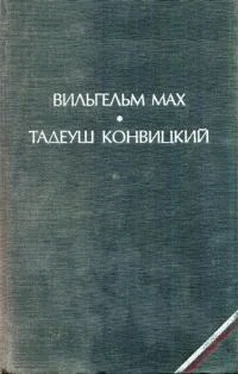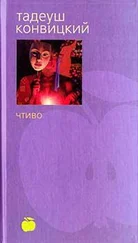— Я слышал, что нашим отрядам нельзя атаковать немецкие эшелоны, значит, поэтому?
— Потому что ты разбойничий атаман. Действуйте, Смелый.
Жандарм от усердия весь изгибается.
— Слушаюсь, пан командир.
Потом он медленно идет в мою сторону и на расстоянии одного шага останавливается. Он стоит, плотно сомкнув пятки, как на строевом учении, и, не глядя мне в глаза, протягивает руку, отстегивает пояс с пистолетом, который велел мне надеть, срывает погоны со знаками различия сержанта. Потом задумывается, исследуя мою одежду, как заправский портной, наконец хватается за эмблему с орлом на моей пилотке и тянет эмблему изо всех сил, но добротное сукно не поддается. Я упираюсь в землю ногами, он возится с бляшкой, как с колючкой чертополоха, которая не хочет отстать от одежды. В конце концов, поднатужившись, он отрывает орла и едва не падает, внезапно перестав встречать сопротивление. А я стою, как подопытное животное, над которым мудрит ветеринар.
— Разойдись! — командует поручик Буря.
Я больше не военный. Ко мне команда не относится, и я, как дурак, хлопаю глазами, один посреди большого двора.
В течение нескольких часов жандармы уводят парами в разные направления моих разоруженных парней. Я пойду, — пойду последним. Со стороны поручика Бури это перестраховка. Он боится — если я пойду первым, так потом где-нибудь на дороге дождусь своих ребят.
Снова, как и вчера, стерильно-чистые облака мчатся над самой землей, волоча за собой маленькие озерца теней. Я сижу на завалинке рядом с Корвином. Мы оба молчим. Говорить нам не о чем. Когда по дороге проходит кто-либо из деревенских жителей, я заслоняю лицо рукой, изображая глубокую задумчивость. В конюшне бьют копытами раскормленные кони, в их числе и мой Пегий — теперь уже ничей.
Подходит, скрипя сапогами, молодой жандарм с мышиными усиками.
— Следуйте за мной, — говорит он, как будто обращается к простым мужикам.
Мы идем гуськом, как стайка домашней птицы: сперва жандарм, за ним Корвин, а я в конце. Не оборачиваюсь, но знаю, что мы уходим на виду у отряда. Кое-что мы все-таки вместе пережили. Они еще не раз будут вспоминать об этом перед сном.
Мы долго шагаем полевой дорогой, пожалуй, километра три. Наконец жандарм останавливается и строго говорит:
— Вы свободны.
Он уходит, не сказав ни слова на прощание. Мы стоим, смотрим ему вслед, словно расстались с близким человеком. Только когда он исчезает среди кустов шиповника, мы устало пускаемся в путь.
Озимые уже поднялись, заяц вполне мог бы в них спрятаться. Я думаю о том, как много берез растет на нашей земле. Нет, я вовсе об этом не думаю. Я все время возвращаюсь мыслью к тому, что произошло перед крылечком, слышу скрипучий голос поручика Бури, вспоминаю каждое его слово, воссоздаю каждый оттенок.
— Корвин, у тебя из сапога вылезает портянка, — говорю я.
Он никак не откликается на мои слова, молча идет впереди, уткнув взгляд в песчаную дорогу.
Мне хочется что-то сказать, я испытываю потребность в том, чтобы разрядить атмосферу, смягчить беду, истинных размеров которой я еще не постигаю. И мне почему-то стыдно перед этим мальчишкой.
Мы снова долго молчим.
— Корвин, знаешь, ты всего на два года моложе меня. — Я пытаюсь улыбнуться, хотя он все равно этого не видит.
Его молчание кажется мне обидным. И я решаю, что ничего больше ему не скажу.
— Никого из наших не видно, — вдруг отзывается Корвин.
— Угу. Вероятно, разошлись по домам, — говорю я, чтобы его успокоить. — Я этого так не оставлю. Я дойду до командования округом.
Над облаками парит стая гусей. Ну и что дальше? Что дальше? Ноги вязнут в песке. Жарко. Надо расстегнуть мундир.
Корвин останавливается и смотрит в сторону леса.
— Знаете… — говорит он, — знаете, я возвращаюсь.
— Куда?
Я чувствую, как мое сердце стучит в ребра.
— К ним.
— Ведь они тебя не примут.
— Должны принять. Пусть делают со мной, что хотят, но принять меня должны.
— Ты слышал приказ, Корвин?
— Я обязан… За брата. Я обязан искупить.
— Корвин, это ребячество.
Он не слушает моих уговоров и пускается бегом назад; бежит все быстрее и быстрее, словно опасаясь моей погони. Я беспомощно стою посреди дороги, разеваю рот, но не могу извлечь из себя ни одного звука.
Я остаюсь один. Смотрю на небо и на дорогу: да, я иду в верном направлении, так я доберусь до города.
Солнце припекает. Снимаю китель, на груди у меня болтается жетон — опознавательный знак, который я сам вырезал из донышка консервной банки. Узнаю неровные буквы, которые я выбил долотом. Они складываются в надпись: «Старик. 12.XII.1942». Дата моего вступления в отряд поручика Бури. Я выбрасываю жетон в поле. Блеснув, как зеркальце, он падает в озимые. Когда-нибудь его найдет пахарь.
Читать дальше