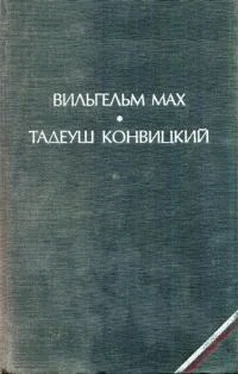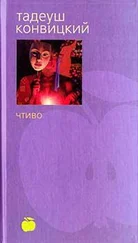Я прячу уши в воротник шинели. Вхожу в конюшню. В грязноватом предутреннем свете вижу два ряда круглых конских крупов. Подхожу к моей лошади. Она жует чистый овес и прядет ушами, а когда я кладу ей руки на спину, нетерпеливо дергается всем корпусом.
С чердака спускается взлохмаченный парень в черном кожухе. Я смотрю на его огромные худые ноги, которые давно не соприкасались ни с мылом, ни с водой. Это ноги человека большой физической силы.
— А, это вы, сержант, — говорит он по-мужицки, без воинских церемоний.
— Я пришел навестить моего Пегого.
— Его здесь не обижают. Он целыми днями с жиру бесится, почему бы вам не проехаться на нем как-нибудь?
— Знаешь, Каршун, у меня ноги в щиколотке слабые, и конь мне бы не помешал.
— Вот то-то и оно, — говорит возмущенный коневод. — Все взводные командиры верхом ездят, а вы пешочком, словно рекрут какой.
— Я сяду в седло, когда у каждого из моих ребят будет по коню. Понимаешь, Каршун?
— Понимать-то я понимаю, но никому от того нет пользы, что вы ковыляете на своих двоих. А я и о седле позабочусь и саблю золой почищу.
— Иди спать, Каршун. Я потерял одного человека, и один у меня тяжело ранен.
Он молчит, задержавшись на приставной лесенке, заваленной сеном.
— Божья воля, — говорит он наконец. — Сегодня ты, завтра я. На небе все записано. Спокойной ночи.
У меня вырывается хриплый кашель, из самого нутра, я вытираю рот. Потом поднимаю ладонь так, чтобы она попала в расползающееся пятно рассвета. Вижу черный сгусток крови. Но так и не понимаю, сейчас он появился или еще в Гудаях. Вытираю руку о шерсть коня, а он хлещет меня по голове пышным хвостом.
Потом я иду на свою квартиру, в избу старой, одинокой вдовы, и прямо в мундире валюсь на высокую кровать, от которой пахнет соломой и яблоками. Все время мне слышится вой Маланки; я толком не знаю, может, это ветер гудит в трубе?
Меня дергают за плечо. Я уверен, что это мне снится, и снова быстро погружаюсь в далекие воспоминания; меня дергают сильнее и выталкивают из объятий сна в ясный, солнечный день. Открываю глаза и вижу на фоне золотистого потолка, выложенного сосновой дранкой, официальное лицо Смелого, нашей «канарейки», командира отделения жандармерии.
— Ну, Старик, Старик, Старик, — монотонно повторяет он.
Я сажусь на кровати.
— Черт, заспался я.
— Нет, еще только полдень. Тебя командир вызывает.
Я хочу бежать в том виде, как я спал, но он меня удерживает.
— Возьми пояс с пистолетом.
— Зачем, я беру его с собой, только когда иду на задание.
Он не глядит мне в глаза. Поправляет свою желтую повязку на руке.
— Я говорю, возьми пояс. Так приказано.
Я подчиняюсь его требованию, старательно одергиваю китель, аккуратно надеваю пилотку.
— Пошли, — говорит он.
Мы выходим на улицу. Яркий солнечный свет режет мне глаза. Я щурюсь и вижу, что перед крыльцом командира выстроился по взводам весь отряд. Поручик Буря, наш командир, спустился на нижнюю ступеньку крылечка. Все стоят, не шевелясь, и молчат.
Я становлюсь на правом фланге моего взвода, а Смелый подходит к командиру. Из соседнего дома вырывается тонкий, слабый плач. Мы все поворачиваем головы в ту сторону.
— Еще жив? — спрашиваю я у своего солдата.
Тот едва заметно кивает.
— Смирно! — командует поручик Буря.
Мы по уставу щелкаем каблуками. А поручик тем временем вынимает из кармана френча вчетверо сложенный листок бумаги. Из-под шапки видны его светлые, почти белые волосы, его старательно подстриженные усы точно такого же цвета. Он читает монотонно, без всякой рисовки.
— За неоднократные нарушения воинской дисциплины, за самоуправство и невыполнение приказов начальства с сегодняшнего дня сержанта Старика разжаловать, лишить наград и права вновь вступить в ряды нашей армии, а его взвод распустить и демобилизовать. Подписано… Смирно! Буря, поручик, командир пятнадцатой бригады.
Он прячет листок, а я никак не могу понять смысл этого приказа. Я напряженно вглядываюсь в его нахмуренное лицо, побеленное бесцветной растительностью, и жду, что вот-вот он по своей привычке, спокойно, сдержанно улыбнется.
Но он избегает моего взгляда, криво смотрит под ноги, в землю и говорит:
— Я тебя не раз предупреждал, Старик. Так должно было случиться.
Во мне поднимается гнев. Я забываю об уставных правилах и вытягиваю руку, словно прошу слова.
— Пан командир… — Я осекаюсь. — Пан командир.
— Только без цирковых номеров, Старик. У меня до боли пересохло в горле.
Читать дальше