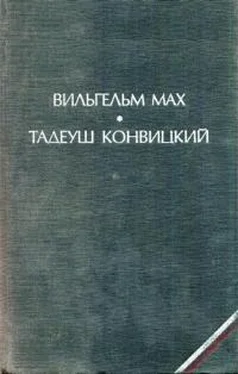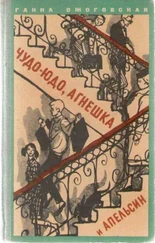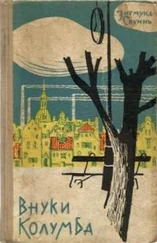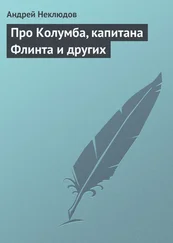Он подходит, Агнешка берет его под руку, радуясь живой душе и тому, что это именно Семен.
— Напугал ты меня. Ходишь за мной, как привидение.
— Приходится, — невыразительно бормочет он. — Я в первый же день сказал: одной не годится.
Внезапное мучительное воспоминание о сегодняшнем дне окатывает ее горячей волной. Она отнимает руку. Ощущает всю неловкость и неискренность молчания, возникшего после его слов. Лучше бы она его не подзывала. Лучше бы он оставил ее и шел своей дорогой.
— Можешь за меня не бояться. Иди, ради бога, к Павлинке. Надо… — она хватается за первые попавшиеся слова, лишь бы не разговаривать о том, о чем они оба думают, — помочь ей, заступиться… Правда, что Зависляк бьет ее? Как ты позволяешь? Отзовись же, Семен! Ты что, оглох?
— Я слышу, хорошо слышу. К Павлинке я еще успею, время есть. Только вот провожу вас, одну тут не брошу.
Уж не читает ли он ее мысли? Устыдившись, она сдается.
— Спасибо тебе, Семен. За сегодняшнее, за все.
— Не за что. Я для вас бы… Обидно все это.
— А понятнее ты не можешь, Семен?
— Пожалуйста. Нехорошо сделал комендант, нехорошо.
В глухом бесцветном голосе Семена слышится упрямое осуждение. Но Агнешка предпочитает сменить эту небезопасную тему на что-нибудь маловажное.
— Давно вы вернулись?
— Да порядочно.
Она не отваживается спросить напрямик о том, что ее занимает.
— Выпил?
— Какое там! Все время за рулем, в кабине.
Верный себе, Семен отвечает только на заданный вопрос, не более.
А может, все-таки рискнуть и завести более серьезный, хоть и окольный, разговор. Сейчас темно, лиц не видно, такая возможность может больше не представиться.
— Небось ты уже очень давно знаешь коменданта.
— Давно. Еще с партизанских времен. Занесло меня в его края, и он подобрал меня, раненого. А потом воевали вместе до самого конца. — Он замолк, но от чувства горечи потребность в признаниях стала еще сильнее, и это заставило его расслабить слишком уж затянутую подпругу. — Не разлучались. Над Вислоком нас даже ранило обоих сразу, одной шрапнелью.
— Он мне как-то рассказывал про этот Вислок. Только не сказал, что…
— А что ему было говорить? Я тогда по пятам за ним ходил, как теперь вот за вами — оберегал. Когда он по ночам в деревню бегал. В тот раз возвращался он утром в лес, в нашу часть, невыспавшийся… И у нас было тихо, и за рекой, и вдруг как загрохочет, засвистит, затрещит… Какой-то шальной снаряд, один-единственный… Вот и оказались оба в госпитале. С тех пор как поправился, он и начал так сильно…
— Что же ты не помешал?
— Пустяки. Его дело. Да что там?.. Тогда никто себя не жалел.
— По порядку, Семен. Ты пропустил…
— Что?
— Ты дошел до госпиталя. Что потом было?
— Потом коменданта… перевели, а я уж сам подал рапорт, чтобы и меня тоже.
— Перевели! Ты не все мне говоришь, Семен.
— Тяжелое это дело, да и не мое. Он вам сам расскажет.
— Ты уверен?
— Расскажет. Беда всегда за лучшими охотится. Беды стыдиться нечего.
— Всегда ты его защищаешь.
— Я только за хорошее защищаю, за плохое не стану. Я не злопамятный, но помнить — все помню, и хорошее и плохое.
— Ты, Семен, из-за сегодняшнего не переживай. Он дурного не думал, а то, что взорвался так, хотел напугать… это ничего не значит, точно тебе говорю, я знаю.
Семен внезапно останавливается:
— Ничего не значит? А то, что он вас…
— Семен!
— Это я его защищаю? — Клокочущая в Семене обида вдруг срывается с тормозов. — Не я, а вы его защищаете! Жалко мне вас! Сегодня, как только вылез он из машины, как только ее увидел, так ей все и р а с с к а з а л. При мне! А теперь сидит у нее, рождество встречает! У Пшивлоцкой. Противно. Вот и вырвалось. Лучше вам знать.
Похоже, будто он сам испугался сказанного, потому что едва он это вымолвил, как сразу отстал от нее шага на два. И они идут молча.
— Жалко, Семен, — тихо говорит Агнешка самой себе, не оборачиваясь к нему. — Ты, Семен, тоже изменился, не узнаю я тебя. Что было, то было, ничего не поделаешь. Только никогда, никогда не говори со мной так.
Может, он и не услышал, потому что они спрямили по тропинке дорогу и уже вышли к замку, откуда до них все громче доносится густой и нестройный гул возгласов и пения. Они проходят мимо развалин, видят мигающие полоски света в щелях ставен, улавливают в пении две разные мелодии, словно бы братающиеся в приступе пьяного доброжелательства. Среди безмолвия ночи, рождественской ночи, в этой хриплой фуге, развеселой и вызывающей, Куба пьет с Якубом, Якуб с Миколаем и пастырями вифлеемскими. Это Зависляк и вся его компания справляют сочельник. Вот чем объясняется отсутствие мужчин в домах, мимо которых проходила Агнешка. Вот, значит, какое разрешение дал Балч в ответ на ее горячую просьбу. «Половину раздашь нашим ребятам», — снова слышит она его приказ. Но это воспоминание не утверждает ее в своей правоте, своей обиде, а, напротив, сражает неожиданным ощущением вины. Она не сумела, а в душе, возможно, и не захотела направить сегодняшний разговор по спокойному руслу, довести спор до рассудительных решений. Не было в ней ни бескорыстия, ни искренности. Вправе ли она отрекаться от своих мыслей, а главное от того желания, с каким она ждала, чтобы он очнулся от задумчивости там, над могилами павших? Она разозлила его, пробудила в нем упрямство и гордость своими притворными нравоучениями. «За этим ты пришла?» — спросил он ее. И был прав. Сочельник. В ночной тишине раскатывается песня. Песня из притона пьяниц, который она сама же и заселила вновь. Кошмар.
Читать дальше