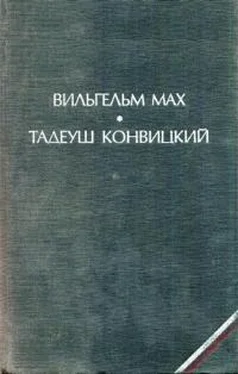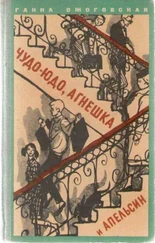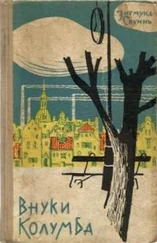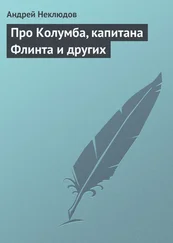— Только и всего? А ну-ка посмотри мне в глаза.
— Лёда, не дури. Все остается как было.
— Я же видела. Твои глаза… Меня не обманешь. Ты ее раздевал…
— А ты одевайся. Глупости. Пойдешь со мной, поможешь грузить.
— Зенон! Я едва живая! Задыхаюсь! — И Лёда трясущимися пальцами перебирает под лампой пузырьки и скляночки, загромождающие ночной столик. — Дай воды.
— Нет, красотка, эта гадость тебе ни к чему. И кончай со своей фанаберией. С понедельника пойдешь в магазин продавщицей. Пелю Пащук выгоню в шею.
— Выгонишь Пелю?
— Выгоню. А что?
— Она воровала?
— Кажется, еще нет. Профилактически.
— Меня бы порадовало, что с Пелей покончено, да только не сегодня.
— Опять все сначала. Хотела получить работу — получай.
— О нет! Я?! Продавщицей? С моим образованием?
— С твоим образованием, принцесса, тебя выгнали из хробжицкой школы.
— Я попросила меня уволить! — От гнева и обиды Лёда почти кричит. — Сама!
— Потому что была вынуждена, — с невозмутимым спокойствием отвечает Балч. — Потому что тебе было стыдно, совесть мучила. Впрочем, к черту все это. Сама знаешь, как к тебе люди относятся. — И, помолчав немного, уже тише, мягче добавляет: — Ребятишки с парома в воду шлеп, а ты стильным кролем к берегу — и только тогда в обморок. Артистка.
— И это ты говоришь? — в бешенстве вскидывается Лёда. — Ты, ты! Который стольких людей погубил!
— Вот видишь. Секрет личности. Меня ведь все равно уважают. Что-то в этом есть, верно?
Лёда вздрагивает, закрывает руками лицо. Тихий плач перебивается невнятными жалобами.
— Меня из-за тебя не уважают, только из-за тебя.
— Глупости. — Балч обнимает ее за плечи. — Может, в конце концов я тебя и отблагодарю как-нибудь. — И, почувствовав, как податливо обмякает ее тело, тут же убирает руки. — Ну, одевайся.
— Не хочу! — сквозь слезы кричит Лёда в новом приступе истерии. — Никуда я не пойду! Не буду я прислугой! Я! Да я могла, да я должна была работать в городе! Преподавать в лучших гимназиях! Где уж со мной тягаться этой… которая сама еле писать умеет! Ты меня не понимаешь. Сын меня не понимает. Никто! Я одна, одна. Вы замучили меня, погубили!
— Перестань, ради бога!
— …а ты… ты бы ее… сразу же!.. Только б она согласилась!
И без всякого перехода, вполголоса, совершенно трезво и спокойно спрашивает:
— Тотек, ты спишь? Тотек? Почему так холодно?
Невидимый за занавеской, уже почти одевшийся Тотек застывает на подоконнике полуоткрытого окна.
А Лёда, уже забыв, что отвлекло ее внимание, придвигается к Балчу.
— Зенон… — замирающим шепотом просит она, — останься. Я тебе что-то скажу. Нет, не очень важное. Зенон… поцелуй меня.
Широкие рукава халата соскальзывают, обнажая полные руки. Лёда крепко обнимает Балча за шею, прижимается к нему. Ночник гаснет.
Тотек бесшумно сползает с подоконника на завалинку, оттуда на влажную землю, поглотившую звук прыжка. Все его худенькое тело сотрясается от сухих, похожих на икоту рыданий. Он бросается вперед и бежит по тропинке через сад.
Шипит ацетиленовое пламя, окруженное густой россыпью огненной пыли, по кузнице разметались ярко-фиолетовые крылья. Когда пламя на секунду перестает бушевать и гаснет, в мгновенно сгущающемся полумраке над огоньками наковальни встают и колышутся на стенах и на потолке огромные тени драконов. Клубы дыма от печи, от сигарет и трубок лениво тянутся над головами, подымаются кверху, неподвижным облаком обволакивая электрическую лампочку в проволочной сетке; она светит неуверенно, словно далекое окно в тумане. Марьянек остановился на пороге и как зачарованный смотрит на живую игру беспрестанно меняющихся бликов и красок. Собравшимся здесь людям он уделяет меньше внимания, потому что хорошо их знает и к тому же не всегда понимает, о чем они говорят, над чем смеются.
Кузнец Герард, перепачканный с ног до головы верзила, с помощью Юра, младшего брата Пели, запаивает трещину на сгибе длинной, причудливо изогнутой медной трубки. На полу возле наковальни лежит бревно, на нем сидят два инвалида и, помогая друг другу, приводят в порядок свои протезы. Старый Пащук, отец Пели и Юра, засучив штанину, откручивает у колена деревянную ногу, покрытую жестяными заплатами; ему никак не удается справиться с ней самому, и один из рыбаков, Макс, своим железным крюком, заменяющим кисть руки, подцепляет и отгибает заржавевшие заклепки. В благодарность Пащук здоровыми руками затягивает ослабевшую пряжку на крюке, после чего промасленной тряпкой начищает до блеска сначала крюк, а затем и собственный протез.
Читать дальше