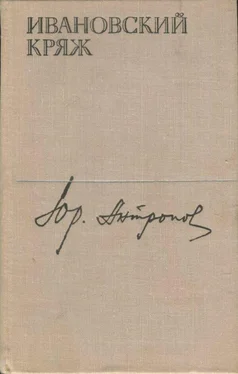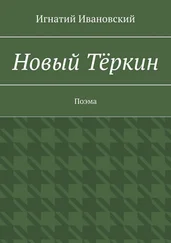Правда, порой Мишке было не по себе оттого, что с чужими — с тем же Генкой Куприхиным — он сходился в любых затеях. Все парни как парни — хоть выпить, хоть на вечерки сходить, — а Иван до армии даже легкого вина в рот не брал, а уж что касается девчат… При любой краснел, как маков цвет. Что сам Мишка, что Генка Куприхин — оба не боялись ни бога, ни черта, и как-то так уж сошлось, что стали механизаторами и служили, хотя и в разное время, в одинаковых частях — и тот, и другой были водителями танков. Иван же, державшийся все время особнячком и любивший без ума лошадей, два года дозорил на заставе и вернулся, ко всему прочему, с тремя сержантскими лычками, в то время как у самого Мишки не было даже одной. «Теперь тебе, товарищ сержант, только хвосты коровам крутить, пусть матка шьет пастушью сумку, — с усмешливым подмигом сказал ему Мишка на встретинах. — Специальности путной нету, а что еще можно делать в деревне?» Но Иван только посмеялся в ответ и, не пьянея, пропел всю ночь высоким чистым голосом, от которого у Мишки в немой боли заходилось сердце, а утром, немало удивив родню, уехал в лесхоз и снова устроился объездчиком — взял себе в обход, как и до армии, кедровый Светлый ключ, славившийся тем, что в прежние годы шишкобои из города не раз привязывали к лесине, ссадив с лошади, особо рьяных лесхозников.
Именно на этой почве, как хорошо знал Мишка, были расхождения с Иваном не только у городских и деревенских браконьеров, но и у всей его родии. Никому спуску не давал. То орехи у безбилетников отберет, то за жерди, без спросу нарубленные, штраф выпишет. А однажды Иван завернул обратно в лес дядьку Аверьяна, своего отца, срубившего несколько пихтовых сутунков для плотницкого дела. «Вези, — говорит, — на то место, где срубил, чтобы в другой раз неповадно было, а то штрафану на всю катушку, тебе же дороже выйдет». Два дня возил отец Ивана обратно в лес те проклятые сутунки, да все в гору, вверх по лощине. И поматерился же он тогда!
А нынче, неделю назад, когда умер Аверьян, Иван переселился на колхозную пасеку, где раньше жил его отец. Но не это удивило односельчан — Иван и в прежние годы помогал отцу заниматься пчеловодством. Как гром среди ясного неба была другая новость: Иван увез на пасеку Любку, жену Генки Куприхина. История эта тянулась давненько. До армии Иван переглядывался на танцах с Любкой, нравилась она ему, но он так ни разу и не пригласил ее, не проводил до дому. А когда, вернувшись со службы, узнал, что Любка вышла замуж за Генку Куприхина, сел на крыльцо и, будто не видя и не слыша никого вокруг, весь вечер глядел на ее дом за проулком. Жила Любка с Генкой плохо, и поэтому никто не осуждал Ивана, когда он отбил свою давнюю зазнобу. Только старые бабки, Анисья и Фекла, тетки Устина и Аверьяна Комраковых, посетовали: «Не мог, безбожник, погодить, когда батьке-покойничку сороковины справят. Девятины хотя бы отвел!»
Поперемывали молодоженам косточки — и все вроде бы забыли про них. Все, да не все. Генка Куприхин кинулся было на пасеку, но Иван выпроводил его в два счета, недаром на заставе служил. И тогда по деревне пополз слушок: Иван Комраков потому-то и на пасеке обосновался, чтобы таскать колхозное зерно! Дескать, на ближних полях орудует. Даже подробности были известны. Якобы на исходе ночи, когда комбайнеры, заглушив фары, вздремывали на полчаса, не больше, мазурик верхом на лошади успевал бесшумной тенью подъехать к одному из комбайнов, нагрести пшеницы в переметные сумы и благополучно отъехать. Замечали его чаще всего в тот момент, когда дело им было уже сделано — пшеница в сумах, сумы на лошади, сам вор в седле. Иные комбайнеры со сна, сгоряча, схватив гаечный ключ, кидались вслед за всадником — но куда там! Для острастки стреляя вверх из двустволки, тот пускал свою лошадь галопом и скрывался в ближайшем ельнике. Устраивали засады, но ночной мазурик то ли всегда был осведомлен, то ли чутьем угадывал, к какому комбайну не стоит сегодня соваться, — всякий раз уходил, полоша ночь выстрелами. И единственной уликой был след просыпанной пшеницы — вроде как ручейком стекала из прорванного угла сумы, — который вел по проселку в сторону Аверькиной пасеки.
Дело дошло до милиции, но поймать ушлого вора так и не удалось. Сочувствуя в душе брату, на которого вдруг пало подозрение, Мишка говорил себе: «Хоть и хреновый у Ваньки характер, многих своими врагами сделал, но чтобы такую напраслину на него возводить… Нет, не его работка! Тут что-то не то…»
Читать дальше