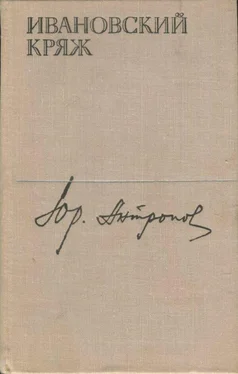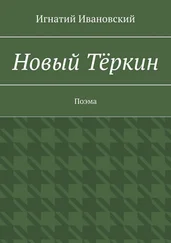И сейчас, когда Иван сказал ему: «Ты же меня недолюбливаешь…» — Мишка укоризненно покачал головой.
— Эх, екель-мекель! Ты, Ванюха, сначала думай маленько, а потом говори! Недолюбливаю я его, видите ли… Да если что, так я бы тебе прямо заявил. В глаза!
Иван пристально посмотрел на него. Наташке показалось, что, если братья были бы в кабине одни, Иван сказал бы Мишке: «Ну, коли так — одним тезкой у меня станет больше!»
Наташка вытянула руку из кабины и на ходу провела ею по махровым изжелта-белым головкам высокого цветка. В лицо пахнуло пряным настоем.
— Ой, какой запах!
— Медуница, — пояснил Иван. — У нас в Сибири ее целые разливы. Идешь, будто по морю пенному.
Иван теперь и на нее посматривал смелее, взгляда не отводил. Наташка хотела было навести братьев на продолжение разговора: что именно так и надо назвать новорожденного — Иваном, но тут в прогале косогора неожиданно открылся ближний луг, на котором стояли высокие избы.
— Уж не Кедровка ли? — спросила Наташка.
— Она самая, — Мишка остановил машину. — Вот здесь твой отец и родился. Историческое место! — засмеялся он. — А это, направо, дорога на пасеку. К моему отцу. К Пихтовому Сучку, как говорят в деревне. А туда, по Светлому ключу, на пасеку к дядьке Аверьке…
— А вы куда дальше поедете?
— В гэрэпэ. Задами. Чтобы по деревне с памятником не маячить раньше времени. Сбросим тес, завезем на кладбище оградку — и махнем на пасеку к бате!
Наташка улыбнулась.
— Мне в деревню сначала надо. Там отец. У своих теток. Его увезли на молоковозке.
— Во, скрытная-то! И молчала ведь… Ну тогда передавай дядьке Ивану привет. Завтра на девятинах все и встретимся.
Иван достал ей чемодан. Наташка подождала, пока машина, с жутко возвышавшимся в кузове памятником, скрылась за деревьями, и медленно пошла в деревню.
Едва лишь она спустилась к мостику, как, сливаясь с клекотом воды, вместе с ветром наплыл на нее монотонно протяжный звук. «Это лес шумит», — догадалась Наташка. Невнятный гул будто толкнул ее в грудь, и она невольно присела на чемодан, но своей потаенностью этот звук поманил ее за собой, и она встала, как заговоренная, полнясь каким-то тревожно-отрадным предчувствием.
О том, что к нему приехали старший брат Иван с дочерью, Устин Комраков не ведал ни сном, ни духом.
Почти безвыездно жили они с Липой на пасеке, наезжая в деревню только за хлебом. Погода на редкость выдалась неустойчивая, и Устин все никак не мог накрыть омшаник, простоявший в срубе с прошлого лета.
Уж и дался ему этот омшаник…
Возьмись он делать его лет десять назад — справился бы с ним играючи, без постыдных передыхов, от которых только больше уставал, до тяжелой дремотной истомы.
Но в том-то и соль, что десять лет назад ему и в голову не пришло хоть бы раз вглядеться вперед с той трезвой рассудочностью, когда человек загодя прикидывает, сколько и чего еще осталось ему в жизни. Значит, не пора была. Вернее сказать, это ему так хотелось тогда думать, что еще не пора. А эти-то десять лет, выходит, и были тем последним запасом человеческого износа, отпущенным каждому от рождения, без которого и жизнь-то уже не жизнь, а так — одно название.
— Слышь, Липа… — как-то несмело позвал Устин жену, опираясь о венцы сруба спиной и легонько почесывая ее, будто это он так остановился, не от усталости вовсе, а чтобы только о чем-то спросить у нее, а уж заодно почесать и онемевшие крыльца. — Как, по-твоему, старый я или ишо нет?
Он старался не улыбаться, но уже в том, как неестественно строго были сомкнуты его губы, как прищурены были глаза, притушавшие до поры шалый блеск, вечно смущавший Липу, да и просто в том, как в минуту посветлело вдруг его лицо, — она не могла не угадать, что опять затевается какой-то подвох.
Только мельком глянув на него, она тут же согнулась над лопатой, жестким тычком ноги, обутой в разношенный сапог, вогнала ее на полный штык в податливо сочную землю, отвалила от кромки цельный пласт, глянцево лоснящийся на срезе, подхватила его, не дала сползти с лопаты и, почти не разгибаясь, выкинула из ямы к ногам Устина.
Ему не видно было ее лица, на лоб она приспустила линялый платок, чтобы застил глаза от солнца, но зато он заметил, как вспыхнула, словно жаром налилась, мочка выбившегося из-под платка уха — белого, сроду не знавшего загара, и, уже довольный в душе, опять поинтересовался все с той же сдержанной скрытностью:
— Так ты чего молчишь-то? Язык проглотила, что ли?
Читать дальше