— Не только для него…
— Неважно! — по-кошачьи отмахнулась госпожа Брандт. — Важно, что этот Андре наверняка упомянут в дневниках.
Доктор Островски с сомнением покачал головой.
— Ну, упомянут, и что? Мы и так уже знаем все, что надо было узнать. Твой папаша Наум Григорьевич Островский, следователь НКВД, убийца и палач, был к тому же и моим дедом. Очень лестное родство, нечего сказать… Зато так называемый «дед Наум» — мне никто и звать никак. Самозванец, попавший на Колыму и присвоивший чужое имя. Хотя во всем остальном, по-видимому, очень достойный человек… Что еще?
— Как это «что еще»? — Нина стала разгибать пальцы. — Во-первых, почему деду Науму пришлось бежать из России, куда он приехал помогать революции? Во-вторых, что он делал в Италии? В-третьих, как случилось, что твоя бабушка признала в нем мужа? В-четвертых, когда ты наконец наденешь этот дурацкий ботинок? Нам надо выезжать через двадцать минут.
В самолете Нина достала из сумочки несколько листков фотокопии.
— Вот, почитай. Клиши дал мне переснять. Это письмо его отцу, твоему «деду Науму», из России. Как он сказал, от сестры. Посмотри, нет ли чего интересного.
Игаль всмотрелся в листочки. На них не стояло ни даты, ни подписи — убористый мелкий почерк.
«Милый мой Андрюша! Пишу с оказией, а с какой — не скажу, чтобы не подводить хорошего человека. Так жаль, что не могу повидаться с тобой и, скорее всего, это уже навсегда. Печально, не правда ли? Когда ты уезжал с метлой из Екатеринослава, мы думать не думали, что видимся в последний раз. А теперь ты не можешь приехать даже на похороны мамы…
На кладбище было холодно, я простудилась, а дров нет. Нет вообще ничего, Андрюшенька. Пойдешь в кооператив — там окна затянуты цветной бумагой, а перед бумагой — пустые коробки из-под толокна и желудевого кофе. Если что появляется, то очереди на два часа. Пошла купить нитки заштопать Машеньке чулки — нет ниток. В одёжном нет одежды, в обувном — обуви, в мануфактурном — мануфактуры. Нет мыла, нет папирос, даже махорку и ту не купить. И мамы вот тоже нет, и тебя — только мы с Машенькой.
Раньше были частники, но теперь их всех позакрывали. Да как хитро: не силой и не милицией. У соседки знакомый на рынке торговал и вот вдруг получил предписание: мол, недоплата за три года, немедля погасить задолженность в четырнадцать тысяч рублей. Он за сердце схватился и даже руку еще не отпустил, а к нему уже пришли, буквально на следующий день: не успел погасить долг, значит, придется описывать — по закону. И описали, Андрюшенька, все подчистую — и лавку, и товар, и мебель домашнюю. Как Мамай прошел…
Машенька болеет, доктор говорит — надо куриное мясо. А где его взять, если курица стоит двенадцать рублей, треть зарплаты? И куда ни зайдешь — всюду они, акцент их противный, буркалы их выпученные. В кассе — еврейка, в милиции — еврей, в конторе — еврейка, в комиссариате — еврей, и все гладкие, сытые, довольные. Как я тебя понимаю, Андрюшенька! Не зря вы тогда из-за них с батькой поссорились. Ты написал, что не можешь вернуться из-за той Трудолюбовой, что она жизнь тебе поломала. А я говорю: правильно ты поступил. Еще и мало — надо было совсем под корешок, чтоб не лезли из всех щелей, как теперь, клопы поганые. Если бы все тогда так поступили, разве ели бы мы сейчас отвратную конскую колбасу? Ее у нас, знаешь, как зовут? „Первая конная“ — вот как. Такой теперь юмор, Андрюшенька.
Так приятно писать твое имя, братик мой дорогой, — каждую буковку его. Будь благополучен и ни о чем не жалей, а мы уж тут как-нибудь. Целую, целую, целую».
— Ну что? — Нина нетерпеливо теребила его за плечо. — Что там написано?
Игаль перечитал письмо еще раз, синхронно переводя на иврит.
— Ага! — торжествующе воскликнула госпожа Брандт. — Шерше ля фам! Я так и думала, что он бежал из-за женщины. Осталось выяснить, кто она такая, эта Труда-Люба, которая ему жизнь поломала.
— Трудолюбова, — поправил Игаль.
— Да какая разница? Главное, что у нас наконец-то появилась лав стори! А то все гадости какие-то — войны, допросы, тюрьмы, самозванцы… И еще: возможно, я ошибаюсь, но сестричка звучит довольно антисемитски. И при этом уверена, что брат ей в этом полностью сочувствует. Извини за вопрос, но твой драгоценный «дед Наум», случаем, в юдофобстве не замечен?
— Чушь! — сердито выпалил доктор Островски. — Чушь абсолютная! Зачем ему было притворяться евреем, если он антисемит? Не забывай: он помогал диссидентам, в том числе и евреям-отказникам. Нет-нет, забудь. Никогда за ним ничего подобного не замечалось. Никогда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





![Алексей Леонтьев - Тройной прыжок [журнальный вариант]](/books/63360/aleksej-leontev-trojnoj-pryzhok-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)

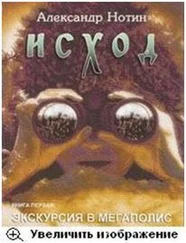

![Алексей Сальников - Опосредованно [журнальный вариант]](/books/423483/aleksej-salnikov-oposredovanno-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)
![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)
