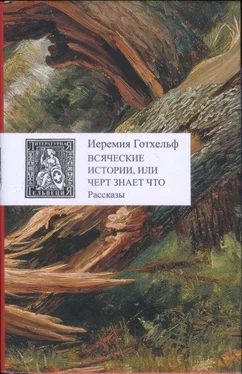Фритц словно летал в облаках, душа его взмыла так высоко, что уже перенесла его через звание фельдфебеля до самого трона. На руку же было и то, что у тетушки было доброе сердце, — еще не раз пришлось воспользоваться ему ее добротой ради Айерли, платья, подкрепления духа, как своего, так и слегка раскрасневшейся суженой. Тетушка и нарадоваться на племянника не могла, но все-ж-таки поставила условие, что на следующий после свадьбы день он ей вернет вспомоществование. Фритц дал обещание и со всей серьезностью намеревался слово свое сдержать.
На Фритца словно бы снизошла благодать. Единственное, что не давало ему покоя, так это мысли, как бы добраться до ключа от коричневого бюро: любовью ли, хитростью, а то и насилием. Счастье его в день женитьбы ни словами описать, ни измерить, ни на весах взвесить было невозможно; невеста была такая нежная, что ни в сажень не уложишь, ни клещами не схватишь.
От нежных же мечтаний разбудило молодожена утреннее солнце; рядом с ним, хрупкая и раскрасневшаяся, храпела возлюбленная. Через занавеси золотом высвечивало солнце темное бюро, молнией проник этот образ во Фритцову душу. Одним махом вскакивает он с постели и, не тратя времени даже на то, чтобы откинуть с лица прядь, всем сердцем стремится к мешочкам храпящей возлюбленной и ищет роковой ключ. Находит, бросается к бюро, отпирает его, и вот уже перед ним нетронутые, крепкие, туго набитые милые, милые холщовые мешочки.
Рассматривает их Фритц прямо-таки влюбленными глазами, пересчитывает — один раз, второй, и каждый-то раз их шесть. То постучит легонько по одному пальцем — ох, как же хорошо позвякивает, как мелодично! А потом как потянет за другой, тут-то нежный мешочек и тресни! Вот развязывает он аккуратненько пальцами ленточку, вырезанную из старых чулок возлюбленной (но о ней и не думает), дрожащими руками проникает в раскрытый мешочек, берет монетку и подносит ее к солнцу. Волосы встают у него дыбом, он трет глаза руками, подолом рубахи, запускает в мешочек всю пятерню, и что же видит? Обеими руками хватает он мешочек за уголки и трясет, трясет. С жутким лязгом выпадает содержимое мешочка и раскатывается по комнате — но не серебро это, не новенькие талеры, не дублоны, и даже не козлики из Цюриха или люцернские бацены, а всего-навсего медяки из Ааргау, из Ааргау, одни только медяки из Ааргау! Фритц, будто окаменев, стоит перед монетами и не может понять, верить ему своим глазам или нет, а за его спиной от жуткого лязга пробуждается возлюбленная и не понимает, что за шум.
Как уж и когда пришли они в себя, можете узнать у коротышки Айерли.
Лет десять или двенадцать назад сидел я как-то в засаде и поджидал несчастного зайца. Егерь с собаками уже долго бродил по лесу внизу, собаки брали след и поднимали зверя, как у нас тут говорят, но сам заяц подниматься и не думал. «А погода-то портится, — думал я, — а уж если надвигается буря, то ни один зверь с теплого места не поднимется». По верхушкам исполинских елей прошел холодный восточный ветер, ели росли очень плотно, словно рожь в поле; стройные и высокие, поднимались они из тумана, будто и выросли-то только для того, чтобы пойти на мачты. День был хмурый, ноябрьский, небо серое, земля желтая, лес черный; как раз один из тех дней, что несут дурные мысли, пробуждают со дна человеческой души тягостные раздумья, невыносимую боль с мрачным настроением, с ненавистью ко всякому свету и жизни. Егеря и собак давно уже не было слышно. Лес был огромный, он простирался у подножия горы, весь был исполосован оврагами, звуки и крики из них с трудом пробирались на высоту. В зловещей лесной тишине мне стало не по себе — кроме монотонного, жуткого завывания ветра в верхушках елей ничего не было слышно.
Тут вдруг позади меня, в подлеске, что-то зашуршало, я вскочил, словно от удара электрическим током. И тут же пристыдил себя, обернулся, вскинув дробовик в ожидании поднятого с лежки зверя, спасающегося бегством от собак. Я ничего не увидел, но в кустарнике что-то медленно и тяжело двигалось, и я никак не мог понять, что бы это могло быть. Чтобы водились в этих местах кабаны или олени, я не слыхал. К тому же с этим зверьем, если уж удастся его поднять, все куда быстрее. Шорох приблизился. Между темными еловыми ветвям я увидел широкое лицо, а рядом с лицом, на плече, — короб. Это был мужчина, а за мужчиной показалось еще одно широкое лицо с таким же походным коробом, на этот раз женское. Они поставили коробы на кочку — сплетены они были из самого плохого кустарника, чуть ли не из терна — уселись на корни елей, вытащили припасы — молоко в бутылке и кусок грубого черного хлеба — и молча принялись за еду.
Читать дальше