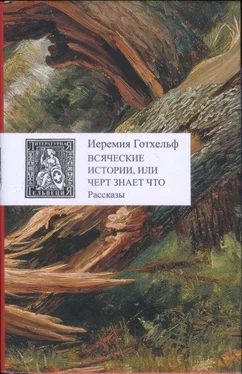Делать мне тут больше было нечего — там, где устроился человек, дикого зверя ждать не приходится. Я пошел вслед за егерем, крик которого снова расслышал, но нескоро еще смог выкинуть из головы этих людей, слишком уж вызывающий был у них вид. Они не выглядели как бедняки или попрошайки, роста были невысокого, но плотные и крепко сбитые, особенно у мужчины члены были необычайной на вид силы, а головой его можно было бы подпереть стену. Одежда у них была изношенная, как раз для того, чтобы пойти за хворостом, но хорошей материи — на бедных людях такой не увидишь. Особенно запомнился мне мешочек, в котором они хранили еду, — совершенно новый, очень красивый и совсем не подходящий к терновым коробам.
Пока я обдумывал все это, раздался вой собак, которым удалось поднять зайца, охота понеслась через лес, мы за ней, время от времени примерялись, но заяц был, видать, калач тертый. Мы ходили за ним несколько часов, но пройдоха как сквозь землю провалился; искать другого мы не стали, и, совершенно упав духом, хотя было еще очень рано, отправились домой.
Путь наш лежал мимо постоялого двора. И хотя на охоте это совершенно не принято, я решил завернуть и выпустить пар. «Ханс, выпьем по стаканчику?» — спросил я. «Да хоть по два, если вам будет угодно», — ответил Ханс. Перед трактиром стояла повозка с великолепным скакуном в элегантной сбруе, а из трактира выкатились два нализавшихся хлыща, орали и чертыхались, с трудом забрались в повозку, а как уселись, один закричал: «А ну, хозяин, принеси-ка еще! Я, так тебя растак, уже помираю от жажды, черт его знает, как и до дома-то доеду, если не выпью».
Я не собирался дольше любоваться этим спектаклем, который и без того меня раздосадовал, и прошел в зал. «Как же хорошо, — поприветствовала меня хозяйка, — видеть других гостей и избавиться от этих проходимцев». Сколько бы они ни выпили, и как бы отчаянно ни нуждалась она в деньгах, а каждый раз вздрагивает, как увидит их издали, — с ними никто не может чувствовать себя в безопасности. Если они появляются, а мужчин среди гостей нет и задирать некого, то пристают и к женщинам, а уж если те не решатся ответить, тогда уж доходит и до собаки у печи или голубей да кур во дворе.
На мой вопрос, кто же они такие, она ответила: богатые крестьянские сыновья из деревни на горе, но такие заносчивые, что изображают из себя бог весть кого. Поскольку за господ они при всем желании не сойдут, то и ребячатся: такие деньги спускают, что волосы на голове встают дыбом. Особенно же тот, что постарше и повыше, — звать его Йогги, жуткий транжира. Скажи ему: «Эй, Йогги, у всего-то на свете есть дно, у каждой дыры и у каждого мешка!» — так он только рассмеется и сошлется на брата своей матери скрягу Ханса; вот когда тот, наконец, окажется под землей, а он получит наследство, такого богатства и семерым не растратить, пускай даже с семикратным усердием.
«Вот это богач», — сказал я. «Да уж, он богат, — ответила трактирщица, — только больно жесток. Так что, унаследует Эрцлиге Йогги чего-нибудь или нет, еще не решено. Хоть и говорят, что Ханс из самых богатых в стране, но среди всех подонков он самый закоренелый; такое о нем рассказывают, что и слушать-то невозможно, не то что поверить».
Вдруг трактирщица вихрем бросилась к окну и закричала: «Скорей, скорей, смотрите, вон он идет, с женой. И где их черти носили, несколько месяцев видно не было. Вот как помянешь черта…» Я не спеша подошел к окну, посмотрел на тропинку, что вилась за трактиром, куда указывала хозяйка; там шли двое. Лишь теперь я будто бы ожил, напряг зрение, словно на охоте, — и кого же я увидел? Тех двоих с коробами из терна, что перекусывали в лесу молоком и черным хлебом. Я предположил, что хозяйка хотела разыграть меня, выдав деревенских бедняков за богачей, и рассказал ей, при каких обстоятельствах встретился с ними. Она всплеснула руками и очень взволнованно произнесла: «Вот видите, каков он, так что можете мне поверить на слово — самый что ни на есть подлый пес, разве что ходит на двух ногах. Лес, где вы его повстречали, — его собственный, причем не единственный. Я слышала, что леса у него на двадцать, а то и тридцать тысяч гульденов, а лес пуще прежнего расти будет. Но в лесу у него не только дерево, дерева-то у него целый сарай, его якобы еще французы ставили. А окна хибары, в которой он живет, до самого верха завалены хворостом, так люди и говорят: Ханс-то Бога не жалует, а читал бы почаще Библию, то пропускал бы в окна побольше света. Но уж про Библию он в последнюю очередь вспоминает, все больше про деньги думает. Уж если окна хворостом заложил, то и воров может не бояться, да и люди с улицы не увидят, как он вместо Библии сидит за столом и день деньской пересчитывает талеры. Каждый год у него набегает сотен пять-восемь на процентах, и никто про это знать не должен. Не случайно у него три огромных двора и деньги в рост, и ни одной душе не известно, сколько, и никому-то он ничего не дает, и себя держит в черном теле. А потому и отправился в такую дурную погоду вместе с женой в лес, да еще и в самый дальний, потому что не позволяет беднякам собирать хворост, а лошадям не дает отдыха; потом везет все это домой, а жене приходится жечь сырые дрова и глотать ядовитый дым, хотя дома-то у него дров на много лет хватит. Такого скрягу и в Израиле-то еще поискать».
Читать дальше