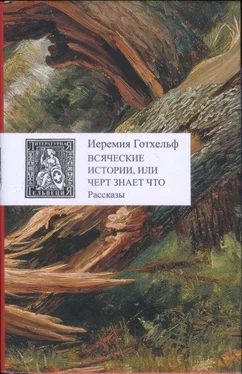В хижине был просторный зал, посреди которого большую часть времени горел огонь, над огнем на железном крюке висел котел, скрывавший в своем брюхе вареное мясо, так что какой-нибудь изголодавшийся посетитель всегда мог рассчитывать на сытную трапезу. Если долго никто не появлялся и старуха переживала, что мясо совсем разварится, она сдвигала котел в сторону от пламени или вытаскивала из-под него дрова и оставляла томиться над углями, на всякий случай. О проходимцах из подлого сословия они, может быть, и не стали бы так заботиться; но вот благородные разбойники суть народ нетерпеливый, да и требовательный, как сам черт, и если уж они в своих визитах отдавали предпочтение хозяину хижины, то почему бы и ему не примириться с прихотями своих гостей? Гость садился к огню, отогревался за трапезой и добрым винцом, которое нередко составляло часть промысла или же закупалось в монастыре в Золотурне, с настоятелем которого хозяин хижины водил закадычную дружбу; впрочем, что их связывало, никому на свете не было известно. А если гостей в хижине было достаточно, на каменном столике затевали игру в кости, а то и задирали потаскушек, торговались и сбывали добычу всем, кому было известно про этот медвежий угол, а заканчивалось все частенько дикой сварой и кровопролитием. Страсти ни друзей, ни врагов не различают, да и собственного хозяина ни во что не ставят, они суть духи адской бездны, заклятые из этой пропасти, освобожденные от ее пут, они несут с собой разрушение, губят собственное средоточие, тело, в котором живут, собственного своего хозяина, душу, которую охватывают, и тогда лишь возвращаются в бездну, когда завершат свой труд, когда негде им больше найти приют на этой земле.
Дома у Курта дела обстояли очень печально; хозяйство пришло в совершеннейший упадок, и Агнес не знала, где искать пропитание для детей. Теперь-то поняла она, что свекровь очень ее поддерживала и пыталась заставить оставшихся вассалов достать ей самое необходимое, дичь и дрова для кухни, а детей — по мере силенок принимать участие в охоте и рыбной ловле, потому как Курт ничем этим более не занимался; редко его можно было застать дома более одного дня, да и то, являлся он лишь, чтобы выспаться, залечить раны или же выместить гнев на подельников. Все было как прежде, в минуту опасности он мог превратиться в неистового вепря, а потом — во всеобщее посмешище, и каждый использовал его на свой лад. Друзья благородных кровей обманывали его при дележе, но чаще всего в кости, управляться с которыми тип из Флюменталя вообще умел мастерски; а парень из Инквиля еще ему в этом пособлял, но тот, что из Ландсхута, буян и верный его подельник, вроде как был на стороне Курта, подливал ему, пока тот не терял над собой власти, а тогда становился и его жертвой, теряя все, что удалось сохранить. Хуже прочих был, однако, седой хозяин, конченный пройдоха, он лебезил перед Куртом, льстил ему, как никому другому, всегда признавал его правоту, на его стороне выступал, когда тот бранился с остальными, и в то же время обманывал Курта пуще прочих, всеми возможными способами, да еще насмехался над ним, когда его не было поблизости. А Курт-то, бедный-несчастный, что-то чувствовал, но в чем подвох, никак не мог догадаться. Можно представить, что это за отец такой, который не приносит домой ничего, кроме ран и злобы, и каково с таким мужем вести хозяйство жене. По счастью, природа тогда была куда щедрее на дары, чем сейчас, иначе все семейство померло бы с голоду. Ко всему прочему у Агнес не было ни души, ей даже и пожаловаться-то было некому, все тяготы приходилось ей преодолевать в одиночку. Теперь она была бы рада и свекрови, теперь она чувствовала, как та была к ней расположена, но, как известно, редко можно понять, хорошо для тебя что-то или дурно, когда имеешь это под рукой.
Но тут для разбойников настало действительно нелегкое время, пришла зима, и жестокая. Зимой путники редко отправляются в дорогу, и чем меньше было следов на снегу, тем легче было опознать разбойничьи, когда б кому была охота. А потому в хижине веселья поубавилось, если уж и удавалось им ограбить какой-нибудь хутор или украсть что-нибудь на ярмарке, то опасность была куда больше добычи.
Случилось это мрачным туманным днем, какие часто выпадают в это время года поблизости от рек и многоводных областей; в такие дни кажется, что солнце — это масляная лампа, из которой выгорело все масло, и лишь на кончике фитиля еще держится пламя. В хижине как обычно горел огонь, но котел был почти пуст, потому как раздор в последнее время случался часто, а добычу приносили куда реже. Старуха скрючилась у огня и ворчала, напротив нее на чурбане сидел флюменталец, уронив узкое, бледное лицо на руки; он уставился на огонь и переругивался с девкой, что ходила вокруг и подзуживала его. В словах ее не было ни капли уважения, а было в них нечто другое — горькая обида на флюментальца. Он ее соблазнил, но обращался чрезвычайно жестоко; она видела, как он обчищал остальных, но не оставлял добычу в хижине и не тратил, а уносил с собой куда-то еще, может быть, откладывал на старость, видела, как он осторожничал и брал себе больше других, хотя делал меньше. О потаскухе этой он не заботился, обходился с ней, как обходятся со старой собакой, у которой выпали зубы. Старик принес в необычной сети, которую в кантоне Берн называют верша, отличную рыбу: форелей, изукрашенных красными крапинами; борода и волосы у него совсем побелели и торчали во все стороны, а дальше прочего торчал на кривом лице нос. Он тоже был не в духе, снаружи был лютый холод, а рыбалкой в это время года промышляют только по нужде. Насупившись, поднес он флюментальцу затребованное им вино и заметил, что скоро и пить будет нечего, вино почти все вышло, но замечание это никоим образом флюментальца не смутило, и он все выпил. Неуютно было в хижине, давненько уже не слышно было ни единого доброго словца, и лишь несколько скупых фраз, словно ядовитые стрелы, перелетали из одного угла в другой; сумрак сгущался, день быстро клонился к закату, не оставив ничего, кроме горького осадка и на сердце, и на языке.
Читать дальше