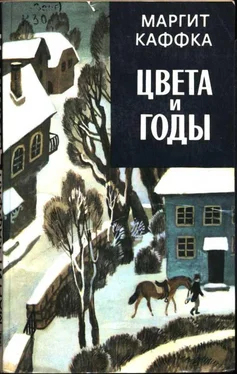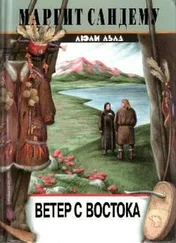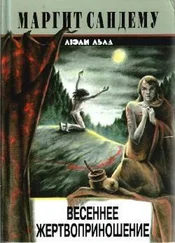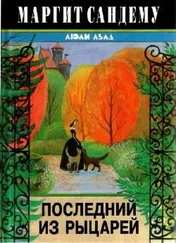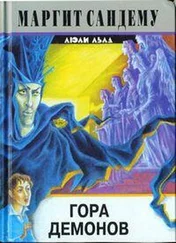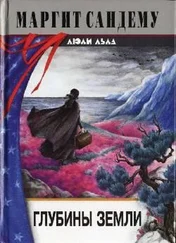Мне тридцатый год, и я снова замужем — по собственной воле, по обдуманному и принятому решению: чтобы найти опору для своей пошатнувшейся жизни. Недоброжелателям в отмщение или во имя нашей любви? Не знаю уж теперь; ради всего вместе.
Внешне будто вернулось давнее, прошедшее. Снова небольшая трехкомнатная квартира на чистенькой, только отстроенной хайдуварошской уличке. Те же вытащенные из огня коричневый репсовый гарнитур, стулья для столовой, полированные шкафы и кровать; старая, тяжелая, извлеченная из ящиков кухонная утварь и перенесенные от матери олеандры, которые я выставила аллейкой перед кирпичной терраской-крыльцом. Была у меня опять прислуга, которой я отдавала распоряжения, было свое хозяйство, — знай только хлопочи, три, чисти, Прибирайся с прежней страстью. Но сама я была уже не та, ушла вперед, — и в возвращении чудилось подчас отступление, преисполняя усталой меланхолией. Но не важно, привычка делала свое.
Вот уже частыми торопливыми стежками шью летними вечерами распашонки на террасе, на плетеном стуле, под отдаленный колокольный звон и пенье служанки на кухне за утюжкой. И тяжкие женские заботы вертятся в утомленной голове, и сердце, тоскливо противясь, сжимается от знакомого предчувствия надвигающегося, неотвратимого. Одиночество мучило меня порой до безумия, и я бывала рада, когда вдруг скрипнет калитка и какая-нибудь давняя знакомка с узлом за спиной, робко-почтительно или признательно вздыхая, подымется по трем деревянным ступенькам: «Ох-ох-ох, сударыня!»
— А-я-яй, сударынька-матушка! Верно, значит? Скоренько, скоренько, боженька ты мой. Ну, да чему уж быть… Оно и лучше, так-то, ручку дозвольте вашу драгоценную. Уж коли хочется иметь, почему не поскорей. Чтобы и папенька нарадоваться успел. Не из самых он молодых. Да и к дому попривяжется, глядючи на малыша, как он возится тут, ползает обок него. Нечего их, значит, и слушать, всех не переслушаешь! Хорошо, что не рассказывала вам.
— Чего, Трежи, не рассказывала?
— Ох-ох-ох, дозвольте ручку, ох, не надо бы, ну, да ладно, скажу, не серчайте только. Старье, — значит, покупала я зимой, барышень тутошних обходила: юбки шелковые, платья бальные поношенные — для веселых девиц, на Розмаринную, прошу прощения; тоже ведь, в чем были, остались, нечего после пожара надеть. Ну, расспросы: что, мол, нового в городе, тары-бары. «Ой, — говорит одна толстушка такая белокурая, в «Чубучке» была кассиршей перед тем, — ой, а правда, Трежи, что красавица эта дивная, вот, что овдовела, за того недотепу выходит, белявого, долговязого? Ой, надо бы ее отговорить! Он ведь, хоть стряпчий, а так, совсем никуда… только небо коптит. Тюфяк, — говорит, — старый, пустышка». Каковы поганки! Мать родную оплюют. Да повернулся бы у меня язык такое передать!
— Хорошо бы ты, дуреха, и сейчас его попридержала! — одернула я ее с полупритворным гневом и досадливым стыдом, взявшим верх над первоначальным любопытством.
Старуха испугалась, стала отнекиваться, отпираться, пока не выцыганила-таки кофейку, как когда-то у мамы и бабушки. Напоив ее, я выложила разное продажное старье.
— Ай, сударынька-барынька, да зачем это вдруг да продавать? Я и цены настоящей не дам. Шаль вечерняя дорогая, болеро черное кружевное и с кружевами пудромантель! Молоденькая вы еще отказываться от них, поносили бы.
— Ты, Трежи, не рассуждай. Свою цену говори!
— А-я-яй… иль уж взять? Боженька ты мой. И не знаю прямо. Вы-то сколько просите?
Заходила и Нани Шпах со своим большущим коробом, упаренная, расплывшаяся, плетеное садовое креслице так и потрескивало под ней. Доставала, разворачивала подходящее к случаю: наволочки для маленьких подушек, свивальнички, вязаные кофточки с кружавчиками, в синих бантиках, и к ней перекочевывали форинты, вырученные за шали, бисерчатые мантильи, в которых я ходила в театр. Надо изворачиваться… что поделаешь! Помешивая кофе, и Нани выкладывала слышанное там и сям, понижая местами голос до шепотка.
— Ну да, по сю пору любит Илка его благородие, любит до смерти, все говорят! Будь они, дескать, прокляты до скончания дней (это я вам чужие слова, — как болтают, значит). И колдует будто, наговоры, что ли, какие знает, заклинанья (правда ль, нет, — не поручусь)… Только слышала, обет будто приняла: до девятого вторника говеть и в Поч сходить на богомолье, — жизни, значит, чтобы вам с ним не было. Да вы не верьте, брехня это, пойдут молоть по-пустому… ни словечка правды нет, верно вам говорю…
Читать дальше