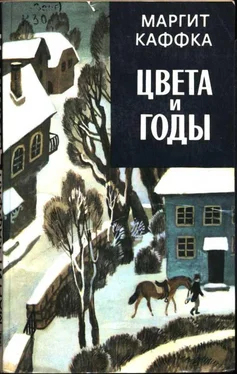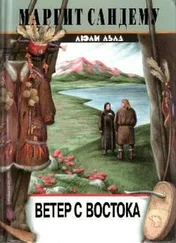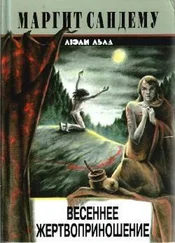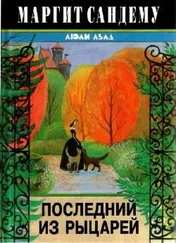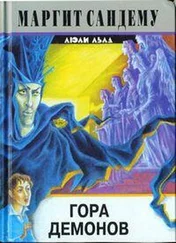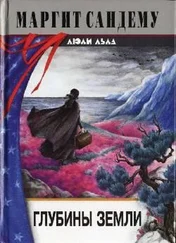Еще помнятся тягостно краткие прощальные визиты и холодные увядшие губы Илки Зиман, приложившейся к моей щеке. Эта, вероятно, больше всего радовалась, что я уезжаю. Мучительный день прошел за упаковкой мебели: пришлось перенести все в две задние комнатки, взгромоздив одно на другое до потолка, — дорогие ковры, пересыпанные нафталином, и мой красивый позолоченный гостиный гарнитур с амурчиками. Парадные комнаты сняла Мелани для своего душевнобольного старшего брата. В сумерках постояла я в опустелом дворе, перед сиротливо оголенным садом, поглядела на запущенные, в щетине сухого бурьяна клумбы, на мокрый, в ржавых пятнах газон и облетевшие деревья, которые сажал покойный Ене; на черное изодранное кружево малинника: как одуряюще сладко благоухал он летом! Но как безумно давно это было… Тут заметила я незнакомую фигуру: по пустой веранде прогуливался бедный помешанный со своей сиделкой.
…Наконец я в вагоне и говорю себе: «Ну, вот расстаюсь, порываю с прошлым, отныне я совершенно одна и свободна!» Поезд тронулся, я высунулась в окно. Провожавший меня Денеш Хорват понуро, в позе безвольного сожаления стоял у деревянного столба. Я вынула платочек с траурной каймой и помахала ему.
Ореолы газовых фонарей, черная недвижная вереница железных перекрытий, звонки, грохот, какие-то выкрики со всех сторон, серный смрад в сыром воздухе, огни и тени, мельтешение, людская толчея: вот впечатления первых минут, минут растерянности…
Когда-то, в медовый месяц, свозил меня покойный Ене в Пешт на легко, мгновенно промелькнувшую неделю, — побывать в театрах и магазинах, полюбоваться витринами. Под руку с ним, то нежно прижимаясь, то надувая губки или упрашивая с шаловливой избалованностью молодой жены, если приглянулось что-то или понадобилось, обежала я этот суетливый, принаряженный разномастный город, и Ене, который взял с собой много денег, тратил их с неуклюже счастливой галантностью. Остановись в фешенебельном отеле, объяснял мне все, показывал, одевал, наряжал, холил и берег… Но теперь, покинутой, ни в ком и ни в чем не уверенной, оставившей все далеко позади бедной вдове, — чего мне нужно здесь?.. Ах, да перемелется, устроится как-нибудь; главное, что хватило сил уехать! И нечто решительное, чуть не героическое чудилось мне в моем разрыве. Да, сумела порвать; теперь уж никто не скажет! И что ни случись здесь со мной, никому поперек дороги не встану, не буду обузой! «Никто» — это, правда, по-прежнему были они, домашние, синерские. А капельку решимости придавало всего лишь оскорбленное женское самолюбие, — гордо подавленное чувство… И на сердце какая тяжесть, и горло сжималось от слез, — прильнуть бы, притулиться к кому-нибудь на этой страшной чужбине! Кому-то принадлежать, опереться на твердую руку!
С обнесенного цепью дебаркадера уже усердно махал мне Гида Рац, муж самой молодой моей тетки, Марики. С ним был носильщик с тележкой. Гида помог мне сойти, распорядился багажом, взял меня под руку, и мы пешком двинулись за моими корзинками и коробками.
— Тут, знаешь, недалеко, чего ты будешь форинт двадцать платить за фиакр? А ему и трех хатошей [38] Хатош — старинная венгерская монета в 20 филлеров.
довольно! Ну, как, вдовушка бедная, пришла хоть немножко в себя?
Оказалось, однако, не близко, и мы прошли порядочный кусок, ступая по обгонявшим нас людским теням, которые скользили по мокрой мостовой. В глаза мне бросилась витрина большой лавки, где висели всевозможные колбасы, потом витрина с сырами в серебряных обертках, а в другой — несметное множество сигар в обрамлении иллюстрированных журналов с уродливыми полуголыми балеринами на обложках. Потом мы пересекли безлюдный сквер с блестящими от наледи молодыми деревьями и пустыми темными скамейками меж кустов. Попалась навстречу какая-то юная пара, оба высокие, приятной наружности; девушка в меховой шапочке со слезами жаловалась на что-то своему спутнику. Носильщика догнали мы в переулке и прошли вместе, еще, по крайней мере, два. Там взобрались на четвертый этаж, и на площадке Гида начал торговаться с носильщиком, мелочно, крикливо. Дверь открыла Марика, и шумная, радушная встреча, тысяча вопросов, аханий, радостных возгласов и всплескивании руками, — ее грациозная до сих пор хлопотливость — на минутку словно опять перенесли меня домой. Наша порода проступала в ней, хотя Марика давно от нас оторвалась. Зимановское уверенное изящество и усмешливая, пленительно живая непосредственность сохранились под чуждыми, наносными и убогими пештскими замашками.
Читать дальше