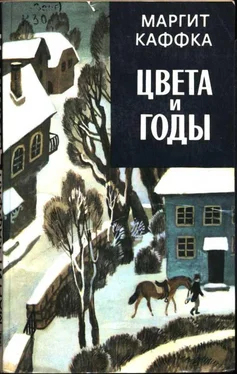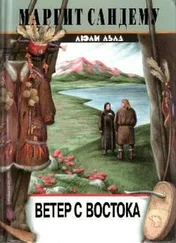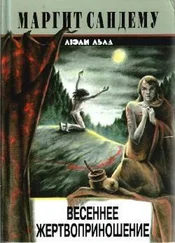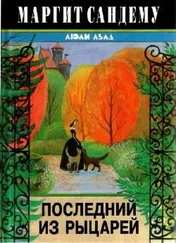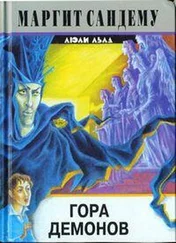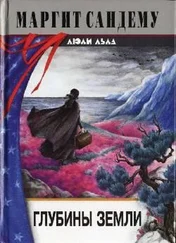— Да, наверно, ты права, об этом слишком рано. Ты ведь и опомниться не успела от этого страшного горя. Прости меня и не думай покамест ни о чем. Здоровье — это сейчас главное. Как ты себя чувствуешь? А малыш? Здоров?
Скрыв удивление или неудовольствие, она искусно, быстро перевела разговор на другое, осыпая меня любезностями, заверяя в искреннем расположении в своей обычной приветливой и все же неприступной, величаво отстраненной манере, и полчаса спустя опять уселась в карету, ослепительно белокурая, изящная, разумная, утонченная, проследовав своим путем и даже не думая, наверно, больше обо мне. Удовлетворила свою снисходительно-благожелательную потребность в доброхотстве, надавала советов.
— Ужасно, просто ужасно! — разразилась я восклицаниями, проходя тем вечером с Денешем Хорватом под кладбищенскими деревьями. — Я этого не вынесу! Слишком это жестоко, без всякого перехода! Шляпницей хотят сделать или содержательницей пансиона здесь, в городе. Ну, разве могу я, скажите? Так, сразу, и в той самой квартире! Нет, лучше убежать, скрыться куда-нибудь, чтобы меня больше не видели!
Некоторое время мы молча шли между могилами по мокрой, скользкой дорожке. У нашей я с бурными рыданьями припала вдруг к надгробью, словно ища защиты, обороны. Хорват в немой печали застыл поодаль.
— Магда, — сказал он на обратном пути и впервые взял наконец мою руку, поднеся ее мягко к губам и долго не отпуская, — поверьте: все мои помыслы с вами. Вы знаете, как велика моя любовь к вам; всей своей никчемной, бесполезной жизнью я с радостью бы для вас пожертвовал, будь от того хоть какой-нибудь прок. Давно уже ничто меня так не тяготило, как ваша теперешняя судьба. Что за мучительные мысли меня одолевают, если бы вы только знали! И как проклинаю я свое бесцельное существование, свою беспечность и распущенность, неуменье подумать о завтрашнем дне, из-за чего я стал просто неспособным послужить опорой той, которая мне дороже всех. Пожалейте меня, Магда, не презирайте! Все, что у меня есть, — в вашем распоряжении, и если нужен вам зачем-нибудь самоотверженный друг, только скажите. Подарите терпением, не гоните от себя; да я и не смог бы уйти. Вдруг подвернется какой-нибудь негаданный случай, и все уладится. Судьба, она изобретательней всех нас. Я пока знаю только одно: что люблю вас безмерно!
Мы уже были у ворот, и рука моя сквозь перчатку ощутила тепло его преданно льнущих губ. Потом, расстегнув пуговку, он поцеловал мне запястье, еще и еще. Я отняла руку и вошла в дом.
«Сколько пышных фраз!» — шевельнулась холодная трезвость. Но ощущение поцелуя осталось, даже после, когда я укладывалась спать.
Дома неожиданно нашла я письмо. Жившая в Пеште мамина сестра, выражая вместе с мужем соболезнование по поводу постигшей меня утраты, с родственным участием приглашала на зиму к себе, чтобы немного рассеяться и придумать сообща какой-нибудь разумный выход. В постскриптуме они еще просили захватить постельное белье и, принимая в расчет пештские условия, денег на стол по тридцать форинтов на месяц. Помню желчно-брезгливое чувство, которое меня при этом охватило, хотя (теперь-то я хорошо понимаю!) было это лишь справедливо и естественно. С горьким и все же робко-пытливым чувством примериваясь и раздумывая, я снова и снова взволнованно перечитывала письмо, смяв его в конце концов и сунув под подушку. Что меня соблазняло? Придумать и в самом деле что-то здравое на будущее, попытать счастья? Большой, незнакомый город увидеть, неведомую жизнь, — или просто хотелось бежать отсюда, от отчима с матерью, их бессердечия, от чужих наговоров и собственных воспоминаний? Или гнала тщета моей строптивой и незадачливой любви? Наутро я решилась.
Как беспорядочные сновидения, проносятся передо мной картины последних дней, — той недели-двух, проведенных еще дома.
Вот я на перроне, поезд отправляется, и беленькие ручонки моего сынишки нетвердо, неумело машут мне из окна вагона. Вижу принужденную улыбку на его кривящихся уже губах, а за ним трясущуюся голову в трауре: мою сразу вдруг очень постаревшую свекровь. Потом одна сажусь на извозчика, и жгучие слезы застилают мне глаза. «Ненадолго ведь!» — ободряю я себя, но сердце подсказывает: его навсегда оторвали от меня.
…И еще холодный, ветреный вечер всплывает в памяти, — прощание с умирающей бабушкой. Лежала она в том самом старом садовом флигеле с кухонным очагом и верандой, под потемнелыми дубовыми балками, и я отсутствующим взором глядела опять на тяжелый старинный стол с крестовидными ножками, на пузатую горку, шкаф со стеклянными дверцами и приклеенными к ним котильонными бантиками. Умчавшиеся детские годы! Целая жизнь отделяла уже от них… Бабушка лежала очень побледневшая, запрокинув на белые подушки красивую старческую голову, и близкая смерть уже наложила на ее изборожденное морщинами пергаментное лицо сине-лиловые тени возле носа и на подбородке. Но она еще с каждым попрощалась, пользуясь тем, что почти все мы в сборе, и отдала последние распоряжения. Попросив к себе адвоката, при нем твердо объявила, о чем не знал даже Иштван: что учреждает согласно завещанию годовую ренту для трех своих дочерей, — небольшое, по четыреста форинтов, но неприкосновенное и надежное в старости обеспечение от нищеты. Какой мудрой и предусмотрительной оставалась до последнего часа эта замечательная, сильная старуха, совсем другая фигура и покрупней, чем просто «mater familias» [37] Мать семейства (лат.) .
,— настоящая женщина-патриарх! Что там толковал о новом типе женщины Петер Телекди?.. Когда мы собрались, она поманила Иштвана к себе, на глазах у всех сняла с пальца бриллиантовый перстень, вынула серьги из ушей. «Это тебе… вот, смотрите и не спорьте потом… И дом с землей к моему сыну переходит, долги сняты. Такова моя воля!» И ни звука, ни словечка против не раздалось, когда голова опять упала на подушки.
Читать дальше