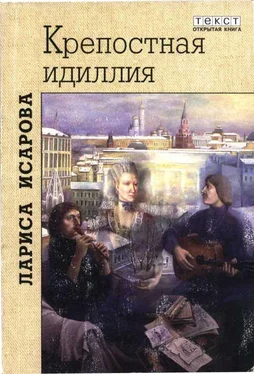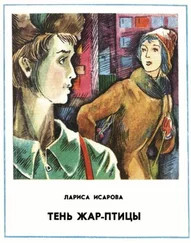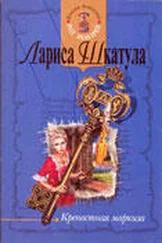Все чаще вспоминался ей удивительный князь Таврический. Параша видела его близко всего один раз, пела перед ним трижды, а тоску ее он понял сразу, захотел отпустить на волю.
Огромный, похожий на циклопа, неряшливый, он часто снился ей и звал за собой, говорил, что все блага мира — суета сует. Он их имел, алкал, жаждал, а потом изнемог под бременем даров, вырванных у судьбы в неустанных трудах. И понял в последний миг, что ничего ему больше не нужно, только бы лежать на волюшке в степи, под бесконечным бархатным небом, чувствовать поглаживание не женских рук, а лунных крыльев, которые равнодушно прощались с самым неукротимым и горделивым из екатерининских вельмож…
На графа смотрели теперь беспощадные глаза уходящей; его она жалела все сильнее.
Николай Петрович, казалось, уменьшился в росте, волосы его заснежились. Почти ничего не осталось от того парижского ферлакура, коего в бытность девчонкой полюбила Параша превыше своей души. Теперь он часто плакал, глаза его легко краснели и наливались влагой. Иногда ей хотелось по-матерински прижать его к себе, побаюкать, как ту куклу, свернутую из косынки, которая была в ее тонких руках, когда они впервые увиделись. Но она стеснялась проявлять чувства и лишь изредка касалась кончиками пальцев его поредевших, мягких, как пух, волос, гладила их нежно.
Она теперь почти не молилась вслух. Тихо прислушивалась к тому, что происходило с ней самой, да смотрела на цветы, картины. Молитва была с ней неотлучно. Она даже не понимала иногда, кому молится: Богу или еще не родившемуся ребенку…
«И остались мгновения считанные…»
В то лето поступило графу огорчение от архитектора Миронова. Сын повара у фельдмаршала Шереметева, он с согласия Николая Петровича учился в Московском университете, потом преподавал в школе Кускова и решил стать архитектором. Проекты его не были похожи на иноземные, граф отказался по ним переделать Кусково, позволив Миронову только помогать «настоящему мастеру». Миронов, человек самолюбивый, осерчал, заупрямился, а как назвали Прасковью Ивановну внучкой польского шляхтича — решил проситься на волю, тоже ссылаясь на польское происхождение. Суеверия ради Шереметев повелел проверить справедливость его притязаний по документам, когда же все оказалось сказкой — пообещал отпустить его после своей смерти. А дотоле приказал управляющему призвать к порядку безумца, но телесно не наказывать, при том дать прибавку жалованья и вольную его сыну…
Параша не вмешивалась, отгораживалась от ненужных волнений. Все равно помочь не могла. Уж как она просила вольные для тех, с кем вместе выходила на сцену, но граф остался неколебим. Хуже того: распорядился всех актеров и актрис отправить на разные работы — кого в дворовые, кого на оброк.
Послушав возмущения графа неблагодарностью Миронова, Параша сказала с горькой улыбкой:
— Ты добрый…
Но он не понял ее истинной интонации…
За месяц до родов Аргунов сделал ее портрет.
Маленький овал акварели в бархатной рамке. Прекрасные вьющиеся темные волосы прикрыты почти до бровей чепцом. Лицо осунувшееся, несчастливое. Графиня Шереметева, видно, знала, чувствовала, что обречена, что скоро уйдет из жизни.
Но до чего ясные бесстрашные глаза!
Что больше всего поражает в этом портрете? Ум, ирония, горечь? Нет, скорее — сила. Сила души, чувств, желаний. Такая сила, которая во все века ценилась и которой всегда не хватало…
И вот свершилось! 3 февраля 1803 года Прасковья Ивановна Шереметева, урожденная Ковалевская, принесла графу наследника, богатыря орущего, Бову-королевича.
Граф боялся, что у него остановится сердце, пока шла суета в покоях графини. Он ловил любой звук, самую малость, но Параша, в кровь искусав губы, не кричала. Она боялась, что криком призовет к себе нечистую силу; с терпением же должно было снизойти Божье благословение…
Николай Петрович воспарил духом. Судьба наконец повернула к нему благосклонный лик, казалось, что поправится скоро его соловушка и станет напевать сыну над колыбелью… Когда первое возбуждение от радостного известия улеглось, он со смехом вспомнил многочисленных родственников, нацеленных на его наследство. Их чаяния растаяли, как ночной туман от утреннего солнца. Но, боясь злобы и проклятий для долгожданного сынка, граф стал обдумывать, чем кого наградить, чтобы подсластить горечь сей пилюли…
Он едва не вбежал к своей несравненной графинюшке посоветоваться. В последнее время привык во всем на нее полагаться, даже ее мнения о новых не читанных им книгах пересылал знакомцам, выдавая за свои собственные… Однако доктора, чьи лица не покидало озабоченное выражение, остановили его в дверях. Они опасались родильной горячки, ждали вспышки чахотки.
Читать дальше