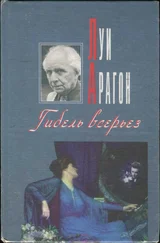Все же рождественским утром, именно потому, что это утро считается в семейном кругу священным и госпожа Морель, эта примерная супруга, будет наверняка сидеть с мужем, господином Морелем, не отойдет от него ни на шаг и, следовательно, не позвонит сюда, по всем этим причинам Орельен вдруг бросил приводить в порядок квартиру и распрощался со своей манией. Не дожидаясь прихода мадам Дювинь, он вышел из дома, радуясь, что так счастливо избег очередной порции ее болтовни. Он не побрился, не переменил сорочки. И все это с чувством злобного удовлетворения.
Стоял серенький денек, однако было сухо. Сердитый, резкий ветер! Орельен зябко ежился, как ежится на морозе человек, три дня не покидавший комнаты, где даже воздух пропитан иссушающим дыханием центрального отопления. Противный холодок пополз от щиколоток к коленям. Орельен плотнее запахнул пальто, поднял воротник, глубже засунул руки в карманы и побрел берегом Сены вверх по течению, искоса поглядывая на запертые ящики букинистов, почему-то напоминавшие сейчас гробы. По брусчатой мостовой как-то особенно четко выбивала копытами дробь белая лошадка, впряженная в дребезжащий фургон для развозки товаров; поперек фургона на фоне черно-голубых полос можно было прочитать слово «Весна», звучавшее как насмешка. Мимо проносились такси. Город казался пустынным, словно оттуда вихрем вымело все живое. Однако на стрелке Ситэ, на мосту и на обоих берегах чернела толпа, люди заглядывали в реку, свешивались с перил, вопили. Что там такое происходит?
Орельен приблизился, его сразу подхватила толпа, сжала и вынесла к самому парапету: там, внизу, бегали, суетились какие-то люди, и тут же стояли в ряд сбросившие одежду мужчины, часть из них в резиновых шапочках на голове; странно было смотреть на эти обнаженные тела, бесстрашно противостоящие холоду; кругом целая куча тренеров, болельщиков, а сверху любовались зрители: женщины, энтузиасты. Внезапно эти белые фигуры, похожие на больших бесцветных рыб или тюленей, бросились в воду, и зрители закричали, заволновались, побежали по мосту к правому берегу. Орельен смотрел, как удалялись пловцы, как, набирая скорость, преодолевали они холод, что было гораздо труднее, чем преодолеть собственную нерешительность; их было, должно быть, около сотни, и, казалось, они заранее распределили свои роли. На мосту стоял киноаппарат, и шла съемка. У обмерзшего берега их поджидали фотокорреспонденты. Река прикрывала пловцов своим ледяным зеленоватым покровом, их атлетические тела появлялись из воды по частям, как разделываемое на колоде мясо; по тяжелому дыханию отстающих можно было судить, какие нечеловеческие усилия приходилось делать передним, и дух упорного состязания уже владел рекой, прежде чем зрители догадались об этом упорстве. Пловцы разбились на группы, впереди плыл отряд сильнейших, вблизи от них держались две-три отчаянные головы в надежде догнать первых, потом, худо ли, хорошо ли, плыли все остальные и, наконец, в самом хвосте — отстающие, которые бросились в воду вслед за прочими, не рассчитав сил, и сейчас их мучил не только холод, но и стыд.
На мгновение Орельен пожалел, что он не на том берегу и не сможет присутствовать при финише. Отсюда было плохо видно вырвавшихся вперед наиболее сильных, а следовательно, и наиболее интересных пловцов, трудно было сравнивать их стиль, манеру. Вдруг Орельену вспомнился Рике, тот самый парень, которого он встретил в бассейне на улице Оберкампф. Возможно, и он тоже плывет сейчас вместе с другими, охваченный стремлением избыть свою энергию, и отнюдь не унывает, что не «выйдет», как он выражался, в чемпионы, он, Рике, вносящий свою безвестную лепту в историю водного спорта. Большинство пловцов были вроде Рике, они боролись за «Рождественский кубок», подобно тому как в деревнях по праздничным дням парни взбираются по мачте за бутылкой коньяка, хотя многие прекрасно знают, что им ни за что не добраться до верха. Когда этих пловцов будут показывать в кинохронике, зрители поежатся и заметят: «Н-да, видать храбрые парни».
Восторженные крики приветствовали победителя состязания. Люди, толпившиеся на правом берегу, передавали друг другу его имя, сопровождаемое целой кучей комментариев. Менее удачливые пловцы продолжали еще бороться с водами Сены, но толпа уже перестала ими интересоваться. Орельен постоял в нерешительности, не зная, куда идти, потом двинулся по направлению к левому берегу, где раскинулась сеть узких улочек, хранящих воспоминание о минувших веках; тут и поныне еще ютятся, как в средневековье, ремесленники и уличные девицы… Орельену казалось, что, убежав от Сены и пловцов, убежав от этой жизни, которую сечет прямо по лицу холод, от этой жадной до зрелищ публики, от восторженных зрителей, он убегает и от теперешнего времени. Он вспомнил о Рике. Пытался вызвать в памяти образ этого крепыша, его простонародные повадки, его неукротимую энергию. В силу каких-то таинственных причин он не мог не думать о Рике. Как сказала тогда Армандина с непередаваемо серьезной интонацией: «Мосье Рике совершенно прав…» Орельен пожал плечами. Все Рике до одного правы, а он, само собой разумеется, неправ. Он подумал о том, что его сила не нашла себе применения, растрачена зря. О том, что свою энергию он израсходовал, начищая квартиру, как начищают ваксой башмак. И пожал плечами. Пробираясь по жалким улочкам, идущим перпендикулярно к набережной, он бросил взгляд на дощечку, висящую на углу одного особенно убогого переулка, и прочел название «Кристина». До чего же он одинок! Он больше не думал о Беренике. Не думал больше о Беренике.
Читать дальше