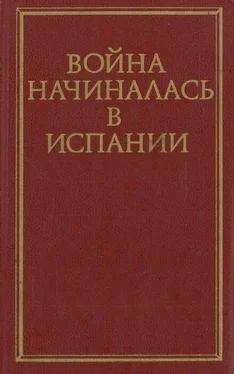— Говорю вам, сеньоры, ждите перемен. И если власть возьмут фашисты, то уж они обуздают этот сброд… Заходят по струнке оборванцы, которые едят мой хлеб, а сами даже шляпу не соизволят передо мной снять!
Через несколько часов он вдруг сорвался и уехал в Кордову. Пробыл там три недели, а вернувшись, остановился посреди площади и заявил кучке прихлебателей, но так громко, чтобы слышали все:
— Я был и остаюсь сторонником законной власти. Мною получены важные указания от губернатора, человека широко образованного и здравомыслящего. Выяснилось, что он придерживается в жизни того же принципа, что и я: порядок прежде всего. А там, где есть порядок… там все есть!
Но, взглянув в угрюмые лица батраков, остановившихся его послушать, Луна заскрипел зубами от гнева: «Говорю все это, унижаюсь… Унижаюсь! А им хоть бы что. Ничем не проймешь!»
Резким движением Педро Луна раздвинул толпу и молча пошел к дому, ощущая затылком сверлящие взгляды. Да разве в прежние времена ходил он как пойманный вор по площади, по своей площади! Нет, прежде он шествовал по ней гордо, а батраки и арендаторы почтительно расступались. Он чувствовал себя счастливым оттого, что все здесь принадлежит ему, что это его люди. Иногда блаженство переполняло его душу, он останавливался и в благоговейной тишине оказывал милость тому, кто меньше всех этого ожидал, заговаривая с ним: «Ну что, Нато?.. Слышал, сына твоего забирают нынче в армию. Узнай, куда его пошлют: не мешает замолвить словечко перед его полковником». Бывало, обходя поля, он подзовет управляющего, опустит руку в карман, где всегда позвякивало несколько дуро, и скажет: «Держи! Угостишь парней от моего имени…» И все казались довольными… Да все и были довольны… Только кто теперь об этом вспомнит!
Задумавшись, он остановился у больших деревянных, обитых гвоздями дверей своей усадьбы. Но крик, ударившись в стену как камень из пращи, словно подтолкнул его в спину.
— Да здравствует Народный фронт!
«Это Вентура, возчик. Четыре поколения его родни едят мой хлеб, и кто же, как не он, неблагодарный, больше всех меня ненавидит!» — подумал дон Педро. Но тут кровь ударила ему в голову: вспомнилось, что сказал однажды Вентура, услышав эти слова, на которые, по его, Педро Луны, мнению, возразить было нечего: «То-то и плохо, дон Педро. И не дай бог моим детям повторить судьбу деда и бабки, всю жизнь гнувших спину на этой земле, обогащая ваших деда с бабкой».
Педро Луна вошел во внутренний двор, залитый солнцем и полный птичьих трелей. Черным пятном в золотом свете возник перед ним тонкий силуэт жены, вечно одетой в траур. Она вышла встретить его.
— Ты уже приехал?..
«В этом доме я жила до начала жизни, до второго рождения, — продолжала Няня Лена. — Жена Педро Луны приходилась дальней родней моей матери. Жила я хоть и не за решеткой, но как в тюрьме. Для чужих — бедная родственница, пригретая из милости; для хозяев — бесплатная прислуга, пара рабочих рук и душа, принадлежавшая семейству Луна на тех же правах, что лошади, домашняя птица, оливы. Альменарские поденщики требовали, протестовали, восставали против кабалы. Я принимала ее как неизбежное зло, само собой разумеющееся. Последний из батраков Педро Луны был свободнее и счастливее меня!
Я вставала на рассвете, но и к полуночи не поспевала со всеми делами. Служанки в доме иногда пели. Я заканчивала одну работу и принималась за другую молча, как автомат. В семье Луна было трое детей, и мне поручили о них заботиться. Нет женщины, не любящей детей. Я привязалась к ним и в том находила утешение… Особенно мне дорога была Крусита, веселая, как ясное утро. Я любила даже старшего, Рафу, хотя он был весь в отца: казалось, так и родился с плеткой.
Дети называли меня няней и, не выговаривая моего полного имени, сократили его до Лены. Так я и осталась для всех Няней Леной.
Я жила среди людей, но в полном одиночестве. Для Луны и ему подобных приживалка как бы и не существовала. Служанки, поденщицы и батраки не доверяли „хозяйской родне“ и старались меня избегать. Жена Педро Луны замкнулась в своем мрачном мире. Болезненная, малокровная, унылая, она равнодушно скользила по дому, вечно одетая в траур: как только кончался срок одного, начинался другой. Думаю, в глубине души, может, и не признаваясь себе, она ненавидела мужа, волкодава, стиснувшего зубы на ее горле.
Одиночеством, тем, что не знала ни людей, ни жизни, можно объяснить ту спячку, ту покорность, с которой я принимала свое тогдашнее существование. За стенами дома сеньора Луны, за оградой его усадьбы начинался огромный мир. Тот мир, в котором можно бы жить иначе. Что же я, не знала о нем? Нет, как было не знать! Но он был чужим для меня, я его боялась… И если иногда начинала догадываться, что у меня хватило бы сил вырваться из тюрьмы, одна мысль об этом казалась безумием и неблагодарностью.
Читать дальше