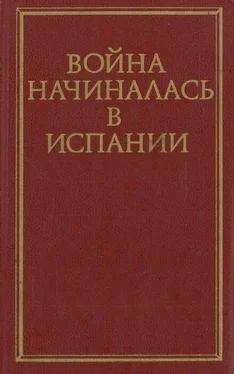— Я оставлю вас… Если что-нибудь понадобится, позовите…
И проскальзывала на кухню.
Я как-то спросил, состоит ли она в партии.
— Как многие — фактически состоит, хотя официально не вступала, — ответил товарищ. — Помогает нам чем может, а раза два или три, когда ее квартира не использовалась как явочная, ей поручали работу связной. И эта скромница — представь — оказалась решительной женщиной!
— У нее никого нет в Валенсии?
— Никого. Муж ее, наш товарищ, убит на Кордовском фронте в одном из последних боев. А она с окончания войны жила здесь у родственницы — бывшей хозяйки этой квартиры, — но та недавно умерла.
Больше ничего о нашей Магдалене я не знал.
До тех пор пока однажды она сама не рассказала мне свою историю. Привычки откровенничать, по-моему, у нее не было, и этот разговор завязался непроизвольно. Она говорила не столько со мной, сколько с собственными воспоминаниями. Ей, должно быть, давно не случалось ни перед кем раскрывать душу.
Обычно я приходил на встречи первым и, чтобы скоротать время, Няня Лена занимала меня разговорами, не переставая нажимать на педаль своей швейной машинки, развалины образца 1900 года, такой же дряхлой, как мебель и все вещи в доме. В тот вечер она, как всегда, говорила о чем-то, а я через полуоткрытую балконную дверь слушал, как потрескивает земля, обожженная августовским солнцем. Горячий бриз доносил запах близкого моря, вдалеке над рисовыми полями клубился и растекался по земле густой пар.
— Ну и печет!
И тут, припомнив другие, по-иному жаркие дни, я спросил:
— Магдалена, вы ведь из Кордовы?
— Да, из тех мест. Родилась в Баэне, а с тех пор, как выросла, жила в… — И она произнесла, как выдохнула, название поселка в провинции Кордова, который мы, ради безопасности Няни Лены, назовем здесь условно Альменар-дель-Рио.
— Он стоит на холме, близ Монторо. Вы бывали в тех краях?
— Да, случалось.
— До чего же там хорошо!
Я принялся вспоминать вслух:
— Если смотреть с обрыва, Гвадалквивир до того зелен — не отличишь от заросших берегов.
— О, да это только зимой! А наступит апрель — и в глазах от пестроты рябит! Все расцветает… Нет другой такой реки, как Гвадалквивир!
— Вас выслали из родных мест?
— Я сама себя выслала.
Оторвав глаза от работы, она загляделась на вечернее небо, в котором день, уже побежденный, догорал багровыми сполохами. Я молчал, пока она не обернулась и не спросила робко:
— Вы были там во время войны?
— Был, но недолго.
— Тогда вы могли знать моего мужа… Антонио Вальядарес, хаэнский шахтер… Он был комиссаром бригады…
— Думаю, знал.
— Хотите посмотреть на него?
Она открыла ящик комода и достала истрепанный номер «Комбатьенте де Андалусия».
— Вот он.
Не знаю, приходилось ли мне на фронте встречаться с товарищем Вальядаресом, но, даже если приходилось, я едва ли узнал бы его на мутной и выцветшей газетной фотографии 1937 года. Единственное, что я увидел, — неясный силуэт военного с бледным пятном вместо лица.
— Ну конечно, — в голосе Магдалены мне послышалось разочарование, — разве вы сможете узнать его на этой фотографии? Я — другое дело! Каждый раз смотрю и вижу его таким, как в жизни…
Мгновение она молчала, с нежностью разглядывала портрет, потом неожиданно резко тряхнула седыми волосами.
— Знаете, что он сказал мне в последний вечер, когда уже близок был тот проклятый день? «Если услышишь, что война закончена… не верь, Лена! Конец у этой войны будет не такой… Если услышишь, что мы проиграли… не верь! Придут тяжелые времена, но ты не плачь и не предавайся отчаянию. То, что мы посеяли на земле, не исчезнет, когда исчезнет фронт. Где бы ты ни оказалась, почувствуешь, как оно бьется, живет…»
Она вздохнула и еле слышно проговорила:
— Он ясно видел это в то время, когда мрак еще только начал сгущаться над нами… А я это вижу теперь… И себя вижу… Когда пришел он, кем я была? Жалкой рабыней, не понимающей, что она рабыня. Теперь… вы видите, мне приходится нелегко, но, насколько мы, бедняки, в силах, я сама распоряжаюсь своей судьбой!
И нежным тихим голосом начала она рассказ о нем и о себе. Перескажу вам своими словами — а где позволит память, и ее собственными — историю Няни Лены.
Большой пустырь, окруженный давильнями и угольными сараями, считался в поселке главной площадью. Он вполне бы сошел за скотный двор, не возвышайся над ним облупившаяся громада церкви. На этой площади 16 февраля утром Педро Л у на, полновластный владыка Альменара-дель-Рио, вещал:
Читать дальше