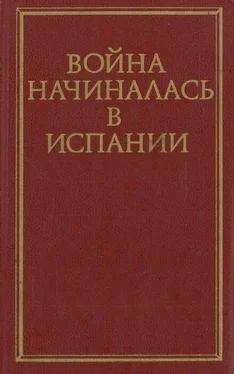— Ego te absolvo in…
Услыхав эти слова, двое схватили Пако под мышки и потащили к стене, к остальным. Пако крикнул:
— За что убивают этих? Они ничего не сделали.
Один из крестьян жил в пещере, как тот, кому давным-давно они носили святые дары. Фары автомобиля — того самого, в котором сидел мосен Мильан, — зажглись, и почти в тот же миг раздался залп, хотя никто не отдавал приказа, во всяком случае, голоса слышно не было. Двое крестьян упали, а Пако, заливаясь кровью, кинулся к автомобилю.
— Мосен Мильан, вы же меня знаете, — кричал он, обезумев.
Он хотел внутрь, в автомобиль, но не мог открыть дверцу. И все-все вокруг запачкал кровью. Мосен Мильан молчал и, закрыв глаза, молился. Центурион приставил револьвер к уху Пако, но кто-то испуганно сказал:
— Нет-нет. Только не здесь!
И Пако потащили к стене. А он хрипло твердил:
— Спросите мосена Мильана, он меня знает.
Прозвучали еще два или три выстрела. И наступила тишина, только Пако еще шептал: «Он меня выдал… мосен Мильан, мосен Мильан…»
Священник сидел в машине, глаза его были широко раскрыты, он слышал: произносят его имя — и не мог молиться. Кто-то погасил фары.
— Все? — спросил центурион.
Мосен Мильан вышел из машины и с помощью служки совершил последнее помазание всем троим. Кто-то отдал ему часы Пако — свадебный подарок жены — и носовой платок.
Потом возвращались в селение. Через окошко машины мосен Мильан глядел на небо и вспоминал ту ночь, когда они с Пако ходили в пещеры соборовать умирающего; осторожно завернув часы в платок, он держал их в ладонях. Он все еще не мог молиться. Проехали мимо ставшего пустырем солнцегрея. Огромные голые скалы походили на головы, сблизившиеся для беседы. Мосен Мильан думал о погибших крестьянах, о несчастных женщинах с солнцегрея и невольно испытывал чувство презрения, которое в то же время наполняло его стыдом и виною.
После того мосен Мильан две недели не выходил из дому никуда, кроме храма.
Селение мрачно замолкло и походило на огромную могилу. Иногда на улице появлялась Херонима — она шла на солнцегрей одна, разговаривая сама с собой. Порою, если думала, что ее никто не слышит, она что-то кричала, а то, молча, принималась считать на скалах выбоины от пуль.
С тех пор прошел год, а казалось, что век. Смерть Пако так свежа была в памяти, что мосену Мильану иногда чудились пятна крови на одеянии.
Он открыл глаза и спросил служку:
— Ты говоришь, жеребенок ушел?
— Да, сеньор.
А про себя — перенеся вес тела сперва на одну ногу, а потом на другую — служка пробормотал:
…вот так и вручил он душу
Всевышнему. — Аминь.
Рядом, в ящике шкафа, лежали часы и платок Пако. Мосен Мильан никак не мог собраться с духом и отнести их родителям и вдове Пако.
Он вышел из ризницы и начал службу. В церкви не было никого, только дон Валериано, дон Гумерсиндо и сеньор Кастуло. И, произнося introibo ad altare Dei, мосен Мильан вспоминал Пако и думал: это правда. Я его крестил, и я его соборовал. Во всяком случае — да простит его Господь, — он родился, жил и умер в лоне Святой Матери-Церкви. Ему чудилось, он слышит, как губы умирающего шепчут его имя: «…мосен Мильан». И он думал, испытывая в одно и то же время страх и умиление: а теперь я служу за упокой его души этот реквием, за который враги его хотели мне заплатить.
1962
Няня Лена
Пер. Е. Хованович
Мы познакомились в Валенсии в 1945 году. Товарищ предложил встречаться дома у Няни Лены, считая, что это самое надежное место. С тех пор мы виделись там довольно часто. Она шила для магазинов готового платья, брала заказы у знакомых, вязала чулки. Но и этих многочисленных занятий было мало, чтобы заработать на пропитание, так что по четвергам, субботам и воскресеньям ей приходилось ездить куда-то на окраину продавать билеты в кассе кинотеатра, нескладного барака, который в эти дни наполняла шумная публика, солдаты, крестьяне и ребятишки.
На вид я дал бы ей лет сорок — сорок пять, а то и больше, но такая у нее была хрупкая фигурка и такой детский голосок, что всякому, кто его слышал, Няня Лена казалась моложе, хотя волосы ее подернулись пеплом. Седые пряди — и черные глаза, ясные и зоркие глаза уроженки Кордовы, взгляд горький от пережитых бед и лишений — и все же полный жизни. Этот контраст придавал строгую прелесть ее увядшему лицу, хотя, судя по неправильным чертам, красавицей она никогда не была.
Держалась Няня Лена приветливо, но робко. Когда приходил один из нас, провожала его в столовую, служившую одновременно мастерской, а как только появлялся второй, забирала недошитые вещи, иголки, нитки и, пришепетывая, как все жители Кордовы, тихо извинялась:
Читать дальше