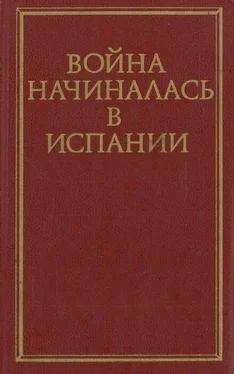Несколько дней спустя дон Валериано сидел у священника. Заложив большие пальцы обеих рук за жилет — отчего брелоки на цепочке стали видны еще лучше, — он сидел и смотрел священнику прямо в глаза.
— Я никому не хочу зла, как говорится, однако разве Пако — не один из заводил? Так вот, сеньор священник: те, что погибли, виновны куда меньше.
Мосен Мильан говорил:
— Оставьте его в покое. К чему проливать новую кровь?
И тем не менее ему приятно было намекнуть, что он знает, где скрывается Пако. И доказать тем самым алькальду свою верность и благородство. Но дело в том, что Пако не прекращали искать, просто с ног сбились. Даже к дому его собак приводили, чтобы те, понюхав старую одежду и башмаки Пако, взяли его след.
В этот самый момент к дому священника подошел центурион с добродушным лицом и в темных очках; услыхав слова священника, он сказал:
— Нам не нужны слабаки с размягченными мозгами. Мы чистим селение, и тот, кто не с нами, тот против нас.
— Вы считаете меня, — сказал мосен Мильан, — слабаком с размягченными мозгами?
И тогда все стали рассуждать спокойнее.
— Последние казни производились таким образом, что преступников не лишали ничего. Их даже соборовали. Чем же вы недовольны?
Мосен Мильан стал говорить о том, что погибли некоторые честные люди и что необходимо покончить с этим безумием.
— Говорите правду, — сказал центурион, доставая пистолет и кладя его на стол. — Вы знаете, где прячется Пако-с-Мельницы.
Мосен Мильан подумал: зачем центурион выложил пистолет на стол — чтобы пригрозить ему или чтобы пистолет не оттягивал ремень? Этот жест он видел у центуриона уже не в первый раз. И еще он подумал о Пако, которого крестил и которого венчал. Вспоминались всякие мелкие подробности: ночные филины, запах куропатки в соусе. Возможно, от его ответа зависела жизнь Пако. Он очень любил Пако, но его любовь была не к человеку как таковому, а к Богу. Ему принадлежала эта любовь, и она была надо всем — и над смертью, и над жизнью. А кроме того, он не мог лгать.
— Вы знаете, где он прячется? — выпалили сразу четверо.
И мосен Мильан ответил — наклонил голову. А это означало «да». Могло означать «да». Когда же он это понял, было поздно. И тогда он попросил: пусть ему обещают, что Пако не убьют. Можно судить его. И если окажется, что он виновен, можно посадить его в тюрьму, только не совершать еще одного преступления. Центурион с добродушным выражением лица пообещал. И мосен Мильан открыл ему, где прячется Пако. Он хотел сказать еще что-то в защиту Пако, но его уже не слушали. Опрометью выскочили вон, и священник остался один. Ужасаясь себе самому и в то же время испытывая облегчение, он стал молиться.
Полчаса спустя пришел сеньор Кастуло и сообщил, что с солнцегреем покончено: городские молодчики дали по нему две очереди из пулемета, и несколько женщин убито, а другие бросились врассыпную, визжа и оставляя за собой кровавый след, точно птичья стая, по которой ударили дробью. Среди спасшихся была Херонима, и, поведав об этом, Кастуло добавил:
— Сами знаете. Дурная трава, сорняк…
Священник, увидев, что Кастуло засмеялся, побледнел и схватился за голову. Вот он какой, однако чужого убежища, возможно, никому не выдавал. Какое же право я имею возмущаться? — спрашивал себя в ужасе священник. И снова молился. А Кастуло все говорил — он сказал, что одиннадцать или двенадцать женщин ранены, не говоря о тех, что убиты наповал. А врач брошен в тюрьму, и потому вылечиться раненым будет не так-то просто.
На следующий день центурион возвратился без Пако. Он был в бешенстве. Сказал, что, едва они вступили в Пардинас, беглец встретил их выстрелами. У него карабин одного из герцогских сторожей, и приближаться к нему означало рисковать жизнью.
Центурион попросил священника пойти к Пако парламентером. Двое из его центурии были ранены, и он не хотел рисковать остальными.
Год спустя мосен Мильан вспоминал те события так, словно они происходили вчера. Увидев входящего в ризницу сеньора Кастуло — того самого, что год назад смеялся, рассказывая о преступлении на солнцегрее, — священник снова прикрыл глаза и сказал себе: «Я выдал убежище Пако. И я пошел к нему парламентером. А теперь…» Он открыл глаза и увидел, что напротив него сидят трое. В середине — дон Гумерсиндо, он чуть выше остальных. Три лица бесстрастно глядели на мосена Мильана. Колокола на башне отзвонили — три последние удара, мерные и печальные, еще дрожали в воздухе. Сеньор Кастуло сказал:
Читать дальше