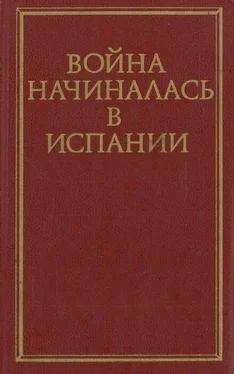Многие сельчане находились в поле, косили. А их жены по-прежнему сбегались на солнцегрей и повторяли имена новых убитых. Иногда они начинали молиться, но потом бросали и, как ни боялись, принимались на чем свет стоит ругать жен богатеев, и в первую очередь Валерианшу и Гумерсиндшу. Но Херонима говорила, что хуже всех — жена Кастуло и что из-за нее убили сапожника.
— Неправда, — сказал кто-то. — Убили потому, что сапожник, говорят, был агентом России.
Никто не знал, что такое Россия, все думали, что речь идет о рыжей кляче с мельницы, ее звали именно так. Однако это не имело никакого смысла. Но если разобраться — то, что происходило в селении, тоже смысла не имело. Не осмеливаясь говорить громко, они все же перебрасывались привычными присловками:
— Кастулша, сквалыга косматая.
— Дура набитая.
Херонима не отставала:
— Мокрица вонючая.
— Гнида жирная.
— От ее дома воняет, — не унималась Херонима, — как от залитого мочой костра.
Она слышала, что городские господчики собираются поубивать всех, кто голосовал против короля. В те страшные дни у Херонимы все время возникали таинственные, сверхъестественные ощущения, повсюду ей чудился запах крови. И все-таки, заслышав на солнцегрее колокольный звон или порой, в контрапункт ему, удары молота по наковальне, она не могла удержаться и начинала приплясывать и трясти юбками. И снова кляла и обзывала свинячьей мордой Гумерсиндшу. Херонима все хотела разузнать, что с Пако, но никто не знал о нем ничего, кроме того, что его ищут. Херонима делала вид, будто уж ей-то все известно, и говорила:
— Такого славного парня им голыми руками не взять.
И вспоминала все его достоинства, какие ей открылись, когда она меняла ему, новорожденному, пеленки.
Теперь, в ризнице, мосен Мильан вспоминал, какие то были смутные дни, и, вспоминая, испытывал скорбь и замешательство. По ночам — выстрелы, кровь, разгул дурных страстей, грубость и бесстыдство чужаков, которые при этом имели вид людей воспитанных. А дон Валериано: сам вроде сетовал на происходящее и сам же подначивал городских молодчиков убивать дальше. Думал священник и о Пако. Отец Пако в те дни сидел дома. Кастуло Перес поручился за него, сказал о нем: этот — чистое зерно, а не сорняк паршивый. И местные богачи не решались тронуть его — видно, ожидали случая добраться до сына.
Никто, кроме отца Пако, не знал, где находится его сын. Мосен Мильан пошел к ним в дом.
— То, что происходит в селении, — сказал он, — ужасно и не имеет названия.
Отец Пако слушал его молча и чуть побледнев. Священник все говорил. Он видел: молодая жена слоняется по дому словно тень, не смеется и не плачет. В те дни никто в селении не смеялся и не плакал. Мосен Мильан подумал, что жизнь без смеха и без слез была бы ужасна, под стать кошмарному сну.
Дружеское отношение нуждается иногда в похвале и поддержке, и, движимый этим чувством, мосен Мильан дал понять, что знает, где скрывается Пако. Он намекнул, что, мол, знает, где Пако; отец и жена должны были почувствовать к нему благодарность за то, что он знает, но молчит. Священник не сказал прямо, что знает, просто дал понять. Судьбе же угодно было подшутить, и отец Пако попал в ловушку. Он поглядел на священника и подумал именно то, чего хотел священник: «Если он знает и не донес, значит, он человек честный и благородный». И от этой мысли ему стало легче.
А дальше, в разговоре, отец открыл убежище сына, полагая, что ничего нового священнику не сообщает. Мосен Мильан испытал неприятное ощущение. «Вот незадача, — подумал он, — лучше бы он мне этого не говорил. К чему мне знать, что Пако прячется в долине Пардинас?»
Мосен Мильан почувствовал, что боится, хотя не понимал — чего. Он распрощался и ушел, испытывая желание оказаться один на один с городскими молодчиками и под дулами пистолетов доказать себе самому, как он стоек и как он верен Пако. Так и случилось. И напрасно центурион со своими приятелями проговорили с ним целый день. В ту ночь мосен Мильан помолился и заснул так спокойно, как не спал уже давно.
На следующий день в аюнтамьенто было собрание, городские господчики произносили речи, драли глотку. Они сожгли трехцветный флаг, а потом согнали всех жителей селения и заставили их в виде приветствия по приказу центуриона вскидывать руку кверху.
У центуриона было добродушное лицо и темные очки. Трудно было представить, чтобы этот человек мог кого-то убить. Крестьяне было решили, что у этих людей, делавших ненужные жесты, щелкавших каблуками и странно вопивших, просто неладно с головой, однако, увидав мосена Мильана и дона Валериано, восседавших на почетном месте, не знали, что и думать. Единственное, что сделали эти люди в селении — если не считать убийств, — вернули герцогу горные пастбища.
Читать дальше