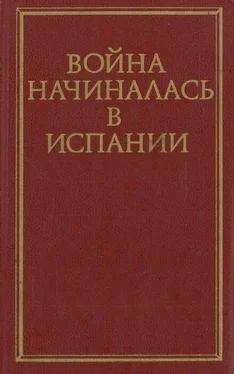Я плохо тогда разбиралась в шахтерах, но подумала про себя, что до войны они должны были быть… как бы сказать?.. не такими резкими, более сдержанными. Шутка ли — в первый раз почувствовать себя хозяевами своей судьбы… Понять, сколько от них зависит… В шахте они были ничем, на фронте — всем. Ну и принялись козырять… Так?
— Да, я примерно то же чувствовал во время войны.
— Вскоре, — продолжала Няня Лена прерванный рассказ, — мы с шахтерами подружились, и я стала у них домоправительницей. Только и слышалось: „Компаньера, то, компаньера, это“.
Вы будете смеяться, но поначалу я вздрагивала, когда ко мне так обращались. Однако постепенно привыкла к этому слову, поняла его… Оно стало мне нравиться и в конце концов сделалось для меня чем-то вроде „сезам, откройся“. Впервые меня называли „компаньера“ и обращались как с равной! Сама не заметила, как стала ходить по дому и по поселку так, как никогда раньше не ходила: с высоко поднятой головой.
Командира я больше не видела, он был на фронте с ополченцами… Но вот однажды вечером в конце июля… Как и во все предыдущие вечера, я вышла на веранду подышать свежим ветром с реки и послушать, как поют во дворе шахтеры. А пели они очень красиво, особенно фанданго. Я сидела на скамейке, и вдруг на веранде в двух шагах от меня появился он. Я вскочила, собралась уйти, но он задержал меня, спросив с добродушной улыбкой:
— Все играем в прятки?.. Сядьте, не уходите и скажите мне, много ли вам хлопот с товарищами?
— Нет, сеньор, они хорошие люди.
— Они — народ!
Он смерил меня с ног до головы изучающим взглядом.
— Мне сказали, что вы живете в каморке, полной старого хлама. Выберите себе другую комнату, получше. Несправедливо, что мы занимаем дом, а вы ютитесь на чердаке… И знаете что, не называйте меня сеньором… Мне это не подходит, да и вообще режет слух…
Последнюю фразу он произнес слишком напыщенным тоном, который не шел к его простым манерам и казался неестественным. Тоже козырял…
Прошло вечеров восемь или десять, прежде чем он опять появился на веранде. Утром того дня им сдались взбунтовавшиеся солдаты гражданской гвардии, засевшие на мукомольной фабрике в Пособланко. Он был очень рад, я поняла это по его словам:
— Еще один бастион врага взят. Мы продвинулись от Пособланко до Серро-Муриано. Пусть недалеко, но так, шаг за шагом, и придем к победе. Не сомневайтесь! — добавил он, будто я возражала. — Мы выиграем войну, мы спасем Дитя, как называли родину наши деды. Неплохая наступит жизнь, вот увидите!.. А там, пройдет время… Я уже пень корявый, но и то думаю застать социализм в нашей многострадальной Испании. Да что далеко ходить… Представляете, Андалусия — социалистическая!
— Представить социализм? Да я не знаю, с чем его едят.
— Вообразите рай. Социализм — это что-то вроде.
Во дворе рассмеялись, и он засмеялся тоже. Потом стал рассказывать о том, что произошло утром.
— Нет, подумайте!.. До чего иногда остро чувствуешь глубину перемен! Вот смотрите… Гражданские гвардейцы сдались с условием, что им сохранят жизнь. Эвакуировать их вместе с семьями, как только они сложат оружие, — таков был договор, и мы его выполнили. Конвоиры, сопровождавшие гвардейцев до станции, чтобы идти быстрее, взялись нести их тюки и чемоданы. Я тоже, скрепя сердце, взвалил на себя сундук одного. Сам он плелся рядом, опустив голову, без треуголки и без обычного гонора. Вдруг оборачивается, глядит на меня и бледнеет как смерть. И тут я начинаю смутно что-то припоминать. „Из Линареса в Убеду?“ — спрашиваю шепотом. „Нет, сеньор, — отвечает, — из Пуэртольяно в Хаэн“. И двух лет не прошло с тех пор, как этот гвардеец гнал меня по дороге в наручниках, босиком, с окровавленными ногами, как бандита. „Из Пуэртольяно в Хаэн“. Лучше, чем я, запомнил. Мне, шахтеру-коммунисту, столько дорог пришлось пройти закованным под жарким солнцем Андалусии, что о той, проделанной когда-то перед его конем, я уже и забыл.
У Антонио появилась привычка выходить на веранду всякий раз, когда он приезжал ночевать в Альменар, а я… я тоже выходила каждый вечер.
— Ну как дела, Лена?
— Да вы же знаете… Все так же…
Он стоял, облокотившись о перила, чаще молча, рядом с моей скамейкой. Скоро я заметила, что не все просто в характере Антонио. Когда он рассказывал о дорогом, о борьбе, о своих идеях, я слушала как завороженная и повторяла про себя, что никогда никто не говорил при мне о чем-то с таким увлечением, так горячо. Но в иные моменты он казался мрачным и замкнутым. Позднее, когда я узнала его ближе, поняла, что есть в его душе и грусть, и спокойная сила, и доброта… но главное — доброта!
Читать дальше