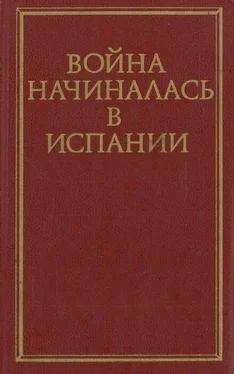— Мария… Мариета…
Под окном, чуть приоткрытым, в кустах отчаянно бился кузнечик, старался выбраться на волю. А дальше, у площади, ржал жеребенок. Жеребенок-то, подумал мосен Мильан, жеребенок, должно быть, его, Пако-с-Мельницы, вот и бродит беспризорный по селению. Бродит-шатается и всем в селении напоминает Пако и горемычную его жизнь.
Положив локти на подлокотники кресла и скрестив руки на черной, шитой золотом ризе, он продолжал молиться. Пятьдесят один год изо дня в день повторял он эти слова, так что вполне мог, не прерывая молитвы, перенестись мыслями в другое. И мысли повели его по селению. Он ждал, когда соберутся родственники покойного. Он был уверен, что они придут — а как же иначе, — надо отслужить заупокойную, будет реквием, хотя никто его не заказывал. И еще мосен Мильан надеялся, что придут друзья покойного. Правда, на этот счет у священника были сомнения. В друзьях у Пако было почти все селение, за исключением двух самых богатых семейств: дона Валериано и дона Гумерсиндо. Третья богатая семья, семья сеньора Кастуло Переса, не была ему ни другом, ни врагом.
Вошел служка, взял в углу колокольчик и, придерживая язычок, чтобы не звонил зря, пошел к двери, но тут мосен Мильан задал ему вопрос:
— Пришли родственники?
— Какие родственники? — в свою очередь спросил служка.
— Не говори глупостей. Разве не помнишь про Пако-с-Мельницы?
— А, ну конечно, сеньор. Только в церкви никого нет, пока еще.
И мальчик снова вышел; он тоже думал про Пако-с-Мельницы. Как же ему не помнить Пако? Он видел, как тот умирал, а после смерти Пако люди сложили о нем романс. Кое-что из того романса служка помнил:
Осудили на смерть Пако
и его товарищей верных,
и жизнь он свою оплакал,
ступая дорогой смертной.
Насчет плача была неправда, потому что служка своими глазами видел Пако, и тот не плакал. Я видел его, думал служка, и других тоже, из машины сеньора Кастуло, я вез святые дары, чтобы мосен Мильан помазал святым елеем покойных. Служка входил и выходил, тихонько сквозь зубы напевая романс про Пако. И, не замечая того, ступал в такт песне:
…вот подошли к ограде,
вскинул винтовку.
Строчка про центуриона у служки связывалась со Святой неделей, с пасхальными процессиями и молитвами. В окна ризницы просочился запах жженой травы, и мосен Мильан, не прерывая молитвы, уловил в нем желания и муки своей собственной юности. Священник был стар и приближался к тому возрасту, думалось ему, в котором соль теряет свой вкус, как говорится в Библии. Он бормотал молитву, не разжимая рта, прислонясь головой к стене в том месте, где на стене со временем образовалось темное пятно.
Служка выходил и входил, то с шестом зажечь свечи, то с церковным вином, то с требником.
— Есть народ в церкви? — снова спросил священник.
— Нет, сеньор.
Мосен Мильан сказал себе: пока рано. Крестьяне еще не успели закончить молотьбы. Но семья покойного не может не прийти. А колокола все звонили погребальным звоном, медленным, мерным, печальным.
Мосен Мильан вытянул ноги. Носки башмаков высунулись из-под белой ризы над плетеной дроковой циновкой. Пола ризы начинала уже обтрепываться. На башмаках залегли складки в месте, где они сгибались при ходьбе, и священник подумал: надо отдать их в починку. Сапожник в селении был новый. Прежний не ходил в церковь, но обувь священнику починял с величайшим старанием и брал меньше, чем с других. Тот сапожник и Пако-с-Мельницы были закадычными друзьями.
Мосен Мильан вспомнил день, когда в этой самой церкви он крестил Пако. Утро крещения было холодным и золотистым, студеное утречко, и речной гравий, которым посыпали площадь ко Дню Тела Христова, хрустел под ногами. Ребенок прибыл на руках крестной матери, завернутый в пышные кружевные простынки, сверху было наброшено гладкое белое покрывальце, шитое тоже белым шелком. Всю возможную роскошь крестьяне приберегают для торжественных обрядов. Когда крестник вступал в церковь, малые колокола отзванивали весело. Сразу можно было понять, кого собираются крестить — мальчика или девочку. Если мальчика, то колокола — один тоном выше другого — отзванивали: то не дочка, а сын; то не дочка, а сын . Если же девочку, то звон менялся и получалось: то не сын, а дочка; то не сын, а дочка [27] No és nena, que és nen; no és nen, que és nena ( катал. ).
. Селение находилось по соседству с Леридой, и у крестьян часто проскакивали каталонские слова.
При виде младенца ребятня на площади загалдела. Крестный отец захватил с собой большой бумажный пакет и теперь доставал из него конфеты и засахаренный миндаль. Он знал: не сделай он этого, ребятишки в один голос примутся выкрикивать обидные для новорожденного слова, поминать его пеленки, да не сухие, а мокрые.
Читать дальше