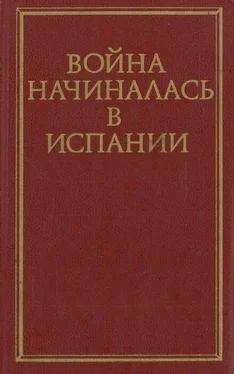Что касается Херонимы, ей было хорошо известно: она священнику не по нраву. Время от времени Херониме случалось — причиной тому было ее занятие или ее присловочки-приговорочки, как сама она выражалась, — возмутить стоячие воды селения. И молилась Херонима — чтобы отвести град или сдержать наводнения — странными молитвами, и даже к той, что оканчивалась словами «Боже Правый, Боже Всесильный, Боже Бессмертный, избавь нас, Господи, от всякого зла», она добавляла еще латинскую фразу, которая звучала полной непристойностью и значения которой священник никак не мог разгадать. Она же произносила ее самым невинным образом, а на вопрос священника, откуда она выкопала столь диковинную латынь, отвечала, что переняла у своей бабки.
Мосен Мильан был уверен, что, подойди он сейчас к колыбельке и подними подушечку младенца, он непременно обнаружит там амулет. Мальчикам Херонима всегда подкладывала маленькие ножницы, раскрытые крестом, дабы оградить их от ножевой раны — от ярости железа, говорила она, — а девочкам — розу, самолично ею высушенную при свете луны, дабы даровать девочкам красоту и уберечь от тяжелых менструаций.
Один момент доставил мосену Мильану тайное удовольствие. Сельский врач, молодой человек, войдя, поздоровался, снял очки, протер их — они у него запотели — и подошел к колыбельке. Осмотрев ребенка, он строго велел Херониме не прикасаться больше к пупочку новорожденного и не менять повязки. Он сказал это сухо и, что гораздо хуже, перед всеми. Его слышали даже те, кто находился в кухне.
Как и следовало ожидать, едва доктор вышел, Херонима отвела душу. Она сказала, что со старыми докторами у нее всегда все шло ладно, без сучка без задоринки, а этот зеленый юнец, видите ли, считает, мол, только его наука годится, да мне довольно услыхать, чем ты похваляешься, и я тебе сразу скажу, чего тебе не хватает. У этого врача не столько знания, сколько форсу и зазнания. Она изо всех сил старалась поссорить родителей младенца с врачом. А не знаете разве, как он ходит по домам, влетает, не постучавшись, и прямиком — в спальню, а там, может, женщина, хозяйка, одевается, ему все нипочем. И не одну уже заставал в лифчике или в нижней юбке. А бедняжки — что? Да ничего. Вскрикнут и убегут в другую комнату. Вот он, ваш врач. Херонима все говорила и говорила, но мужчины уже не слушали. Мосен Мильан в конце концов вмешался.
— Ладно, Херонима, замолчи, — сказал он. — Врач есть врач.
— Вина тут не в Херониме, — сказал кто-то, — а в вине.
Крестьяне говорили о делах. О том, что зерновые взошли хорошо, рассада овощных тоже прорастает, одно удовольствие будет весною высаживать бахчевые и салаты. Когда беседа начала иссякать, мосен Мильан заговорил о суевериях. Херонима слушала в молчании.
О вещах серьезных священник говорил с крестьянским подходом. Он говорил, что церковь радуется рождению младенца так же, как и отец с матерью, и что надо оберегать ребенка от суеверий, ибо все суеверия — дело рук дьявола и не сегодня, так завтра могут повредить мальчику. И добавил, что, как знать, может, мальчик станет для христианства новым Саулом [28] Основатель Израильско-Иудейского царства.
.
— По мне, пусть он в доме мужиком будет, а в поле — старшим, — сказал отец.
Херонима засмеялась, лишь бы позлить священника. И добавила:
— Парнишка станет тем, кем ему должно стать. Да кем угодно, только не священником.
Мосен Мильан поглядел на нее удивленно:
— Какая ты грубая, Херонима.
Тут кто-то пришел за знахаркой. Она ушла, а мосен Мильан приблизился к колыбельке, поднял подушку и обнаружил под ней сложенные крестом гвоздик и маленький ключ. Он вынул их из-под подушки и вручил отцу со словами: «Ну, видите?» И прочитал молитву. А потом повторил, что, даже если маленький Пако и станет когда-нибудь в поле старшим, ему Пако — духовный сын, и он должен печься о его душе. Разумеется, Херонима своими суевериями большого вреда не причинит, однако добра от этого тоже не будет.
Прошли годы, и маленький Пакито превратился в Пако, и вернулся с военной службы, и умер, а мосен Мильан в годовщину его смерти хотел отслужить заупокойную; и Херонима все еще жила на свете, хотя и состарилась так, что начала заговариваться, и никто на нее больше не обращал внимания. Служка мосена Мильана, стоя в дверях ризницы, то и дело выглядывал за дверь — что делается в церкви — и говорил священнику:
— Еще никто не пришел.
Священник поднимал брови и думал: не понимаю. Все селение любило Пако. Все селение, кроме дона Гумерсиндо, дона Валериано и, может быть, еще сеньора Кастуло Переса. О чувствах этого, последнего, никто не мог знать наверняка. Служка тоже рассуждал сам с собой словами романса про Пако:
Читать дальше