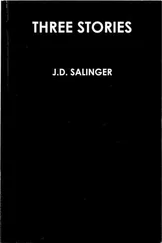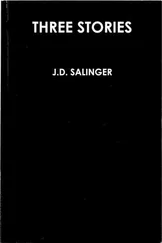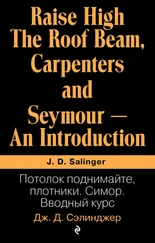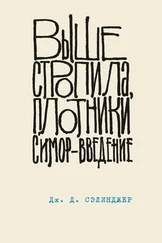Я слишком разошелся насчет поэзии своего брата? Слишком словоохотлив? Да. Да. Я слишком разошелся насчет поэзии своего брата. Я словоохотлив. И мне это не безразлично. Но мои собственные возражения против того, чтобы немедленно заткнуться, по ходу дела множатся, аки кролики. Более того, хоть я, как уже было приметно заявлено, писатель счастливый, поклясться готов: ни сейчас, ни когда бы то ни было прежде я не был писателем веселым; мне милостиво отведена стандартная профессиональная квота невеселых мыслей. Например, отнюдь не сей момент пришла мне в голову мысль: как только я начну излагать то, что сам знаю о Симоре, нельзя будет рассчитывать, что мне достанет либо места, либо требуемой частоты пульса, либо, в широком, но истинном смысле, склонности снова упомянуть о его поэзии. Сей момент в изрядной тревоге, когда я вцепился в собственное запястье и читаю себе нотацию о словоохотливости, я, возможно, теряю единственный в жизни шанс – на самом деле, думаю, последний мой шанс – выступить с одним последним, сиплым, возмутительным, всеохватным публичным заявлением касаемо места моего брата в американской поэзии. Я не должен его упустить. Вот оно: когда я всматриваюсь, вслушиваюсь в прошлое, в полудюжину или чуть больше оригинальных поэтов, которые у нас в Америке есть, равно как и в многочисленных талантливых поэтов-эксцентриков и – особенно в нынешние времена – множество одаренных стилистических уклонистов, у меня возникает нечто близкое к убеждению, что у нас было всего-то три-четыре очень почти-что-непреходящих поэта, и мне кажется, Симор рано или поздно наверняка станет в один с ними ряд. Не в одночасье, verstandlich [318] Понятно (нем.).
. Zut [319] Черт возьми (фр.).
, разве нет? Догадка моя, моя, быть может, вопиюще надуманная догадка: первые несколько волн рецензентов косвенно забракуют его стихи, назвав их Интересными или Очень Интересными, подспудно либо просто-напросто невнятно провозгласят, тем более обрекая их на гибель, что они – довольно мелкие штучки за нижней гранью слышимого спектра, коим не удалось выйти на современную западную сцену с собственной встроенной трансатлантической аудиторией, оборудованной трибуной, стаканом и кувшином морской воды со льдом. Однако, я заметил, подлинный художник переживет всё. (Даже хвалы, как я счастлив подозревать.) И мне пришлось вспомнить к тому же, что однажды, когда мы были мальчишками, Симор пробудил меня от крепкого сна – взбудораженный, и желтая пижама его сверкала во тьме. С таким видом, какой мой брат Уолт, бывало, определял как «Эврика», он желал сообщить мне, что он, судя по всему, наконец понял, зачем Христос велел никого не звать неразумным. (Проблема эта ставила его в тупик всю неделю, ибо звучало это скорее советом, пожалуй, более уместным для Эмили Пост, нежели для того, кто так занят Отцовским Делом.) Христос сказал это, как, по мнению Симора, мне было небезынтересно знать, потому что неразумных не бывает. Остолопы – да, но неразумные – отнюдь. Ему помстилось, что меня ради этого очень стоит разбудить, но если я признаю́, что так и есть (а я это, без сомнений, признаю́), мне придется сделать и такую уступку: если предоставить и поэтическим критикам достаточно времени, они докажут, что и они не дураки. По правде говоря, осознать мне такое непросто, и я благодарен, что могу переползти к чему-то иному. Я достиг в конечном итоге истинной верхушки этого навязчивого и, боюсь, по временам несколько нарывающего исследования Симоровой поэзии. Я предвидел это с самого начала. Богом клянусь, лучше бы читатель сначала сообщил мне что-нибудь ужасное. (О, это вам говорится – вам, с вашим завидным золотом молчанья.)
У меня снова и снова возникает предчувствие – и в 1959 году оно уже почти стало хроническим, – что когда стихи Симора окажутся широко и вполне официально признаны Первоклассными (их сложат стопками в книжных лавках колледжей, предпишут изучать в курсе Современной Поэзии), зачисленные в высшие учебные заведения юноши и девушки выступят поодиночке и парами, с тетрадками на изготовку, к моей отчасти скрипучей двери. (Достойно сожаления, что вопрос этот вообще неизбежно всплывает, но, конечно, поздновато уже претендовать на непосредственность – не говоря об учтивости, – которой у меня нет, и потому я должен открыть вам, что моя, по общему признанию, душою вылепленная проза подарила мне титул одного из самых любимых дилетантов, которых публиковали после Ферриса Л. Монахана, посему немало молодых филологов уже знают, где я живу, где отсиживаюсь: у меня в доказательство имеются следы их шин на клумбах с розами.) В общем и целом, я бы сказал без малейшего лоскута сомнения, существует три вида студентов, у которых имеется как желание, так и безрассудство наиупорнейшим манером заглядывать в рот любому литературному коню. Первый – это юноша или девушка, которые до беспамятства любят и уважают любой сравнительно ответственный сорт литературы, и они, если не могут ясно разглядеть Шелли, обойдутся выискиванием изготовителей продуктов качеством похуже, но достойных рассмотрения. Таких мальчиков и девочек я знаю хорошо – ну, мне так кажется. Они наивны, они живы, они восторженны, обычно они далеко не правы, и они всегда, я так понимаю, – надежда пресыщенного либо корыстного литературного общества по всему миру. (По немалой счастливой случайности – я никак не могу поверить, что ее заслужил, – у меня какие-нибудь такие бурливые, самоуверенные, раздражающие, поучительные, нередко очаровательные мальчик или девочка присутствуют в каждом втором-третьем классе, что мне доводилось обучать за последние двенадцать лет.) Вторая разновидность молодых людей, кои будут стучаться ко мне в поисках литературных данных, страдает, отчасти с гордостью, академицитом, подцепленным у кого-либо из полудюжины преподавателей современной филологии либо руководителей аспирантуры, с которыми такие молодые люди контактировали с первого курса. Нередко, если инфицированный сам уже преподает или собирается преподавать, болезнь прогрессирует настолько, что возникают сомнения, можно ли вообще остановить ее течение, даже если человек совершенно к такой попытке готов. Вот в прошлом году, например, ко мне заглянул юноша – насчет текста, который я написал несколькими годами ранее; речь там шла по преимуществу о Шервуде Андерсоне [320] Шервуд Андерсон (1876–1941) – американский писатель, певец глубинки.
. Явился юноша, когда я распиливал часть зимнего запаса дров бензиновой мотопилой – инструментом, которого после восьми лет регулярного использования я все еще боюсь до ужаса. Стоял разгар весенней оттепели, прекрасный солнечный день, и я себя чувствовал, сказать по чести, чуточку торообразно (что для меня истинное наслаждение, ибо после тринадцати лет жизни на природе я по-прежнему буколические расстояния меряю нью-йоркскими кварталами). Короче, день выглядел многообещающим, хоть и литературным, и, помню, у меня затеплились серьезные надежды, что юношу я, как Том Сойер с его ведерком извести, припрягу к моей бензопиле. На вид он был здоров, не сказать – крепок. Его обманчивая внешность, тем не менее, едва не стоила мне левой ступни, ибо среди рывков и рева пилы, едва я завершил краткий, но довольно приятственный панегирик кроткому и действенному стилю Шервуда Андерсона, молодой человек спросил меня – после задумчивой, жестоко многообещающей паузы, – не считаю ли я, что вообще бывает эндемический американский Zeitgeist [321] Дух времени ( нем. ).
. (Бедняга. Даже если будет прекрасно о себе заботиться, все равно вряд ли сможет рассчитывать больше чем на полвека успешной школярской деятельности впереди.) Третья разновидность персон, кои, вероятно, станут здесь сравнительно частыми гостями, как только стихи Симора вполне тщательно распакуют и привесят к ним бирки, требует отдельного абзаца.
Читать дальше
![Джером Сэлинджер Дж. Д. Сэлинджер [litres] обложка книги](/books/384574/dzherom-selindzher-dzh-d-selindzher-litres-cover.webp)