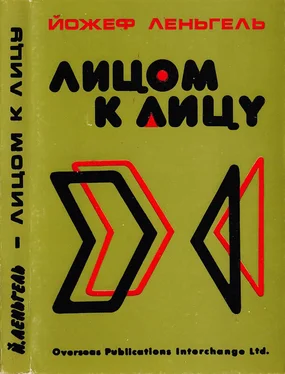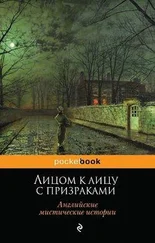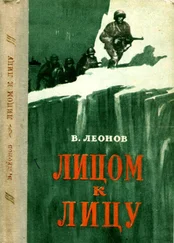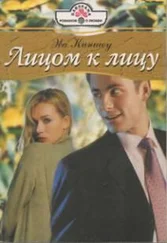— Предназначено быть врагом власти.
— Назовем белое белым: анархист.
Он прищуривает левый глаз, точно безжалостно целится в меня из ружья, во взгляде вопрос: «Вытащил из запасов словцо, чтобы запугать?» Некоторое время он молчит, все так же прицеливающе глядя на меня, потом медленно, подбирая слова, начинает говорить:
— Можете называть это как угодно, Баница, но такова должна быть позиция каждого последовательного коммуниста, если мы не хотим забывать о целях, которые лежат перед нами. Собираемся мы или нет взяться за строительство как раз такого государства? Как это написано?.. «Диктатура превращается в свою диалектическую противоположность и становится концом всякой государственной власти». Так ведь? Мне давно не приходилось приводить столько цитат.
— Цитата правильная, — пожимаю я плечами. — Но проблема заключается во времени. Вам не терпится ликвидировать государство сейчас же.
— Я бы и сделал это сейчас, если бы мог. Но даже если этого нельзя сделать сегодня, я бы старался к этому подготовить завтрашний день. Точнее: я бы не делал и не позволял делать ничего, что могло бы помешать — как это называют ученые мужи? — «диалектическому процессу». А тем более, когда начнут падать преграды, умышленно вознесенные узурпаторами власти на пути к цели. Мне кажется, это называется объективной силой истории.
— Примерно. Никто в этом не сомневается. Но, к сожалению, это далекий путь.
— Я бы предпочел, чтобы ваше сожаление было искренним, а не стилистической связкой. Но…
Он совсем охрип: горло пересохло от центрального отопления. По-видимому, ему не часто случается так много говорить.
— Чуточку свежего воздуха, — говорю я, открывая окно.
— Где тут найти немного воды?
— Минутку. — Я выхожу, перерыв нам только на пользу. Я тоже устал… Возвращаюсь со стаканом воды. Он пьет.
— Паровозы… — Он показывает в открытое окно. — Там я слышал моторы над головой, но поезда не видел годами. Ни паровозного гудка. А потом нас вдруг гонят к какому-то железнодорожному пути, на боковой ветке грузят в вагоны для скота… Между прочим, они лучше тех вагонов, которые тут по сей день зовут столипин-скими… Прогрессивная традиция… Во всяком случае, едем. Куда? Где-то нас выгружают, уводят — и снова не видим поезда многие годы. А после освобождения я ехал неделями в поезде. Под конец мне удалось пробраться в товарный вагон, как-нибудь еще расскажу… Ехал я месяц. Но не буду тебя утомлять своими историями.
Я не отвечаю, и он продолжает:
— Сейчас я живу в Александрове, в доме, где дни и ночи слышен шум и грохот с сортировочной станции. В Александрове к составам прицепляют паровозы дальнего следования. Большой железнодорожный узел… туман, паровозы свистят, похоже, что они воют и стонут… В тумане кажется, что все звуки ближе, не так ли? Больше нигде в мире у паровозов нет такого пронзительного, жуткого гудка, этого предвестия катастрофы.
— Гудок, по поводу которого вы так негодуете, необходим при частых здесь крушениях в тумане и снегах.
— Знаю, но это меня как-то мало утешает. С вашего позволения, Баница, лагерь сыграл дьявольские штучки с моей нервной системой. Не говоря о том, что до ареста я проводил ночь за ночью, ожидая, когда за мной придут. Скажу — с должным почтением, — что тут была не одна, а тысяча и одна варфоломеевская ночь.
Как он смеет такое говорить, это отвратительно! Я спрашиваю ледяным тоном:
— Вы их считали?
— Нет. Счет продолжается. Можно закрыть окно?
— Разумеется.
Дым выветрился, но в комнате стало холодно и осталась махорочная вонь. Я сижу напротив него. Попробуем его немного одернуть:
— Скажите мне начистоту, Банди Лассу, вы бы рассказали, допустим, о тех же бесчисленных так называемых варфоломеевских ночах моей жене или, к примеру — нашему швейцару?
— Это и есть вопрос, на который у меня нет ответа. И тут дело не только в опасности, — как ни парадоксально это звучит, но мне все еще хочется жить, — мой страх всего лишь один из факторов. Меня удерживает еще что-то. Даже в школе дети не начинают с алгебраических уравнений. Я хочу сказать, — не разбираясь правда, особенно в таких вещах, — что, по-моему, это похоже на второй закон термодинамики: все движется ко все большей потере энергии.
— Ну, это не вполне точно.
— Без сомнения. Ваша сфера. И все-таки Эйнштейн был прав, говоря, что политика сложнее физики.
— Но если дело обстоит именно так, не кажется ли вам, что открытия и публикации открытий требуют большей осмотрительности в политике, чем в науке?
Читать дальше