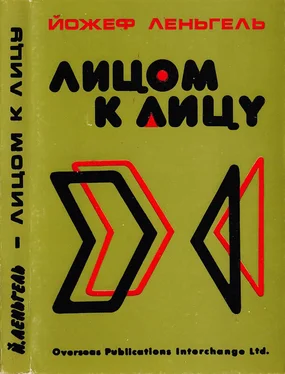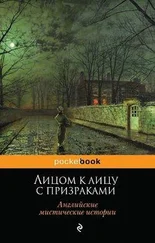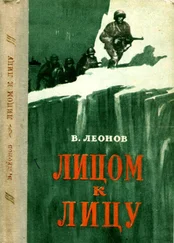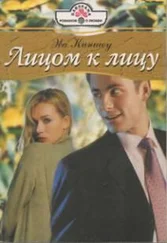— Классовая диктатура, прошу заметить!
— Очень мягкая диктатура. Оставим на другой раз дискуссию о том, привела ли мягкость к чему-либо хорошему, или наоборот. Если, конечно, у нас будет другой раз.
— Не разглашая никаких тайн, могу тебя заверить, что в Венгрии следующим шагом будет диктатура. Это неизбежно.
— Если неизбежно, то неизбежно. Но те, кто в ответе, действительно ли они хотят — не на словах, а на деле, — чтобы этот этап был всего лишь этапом? Предваряя, так сказать, некий другой тип государства? Ибо в таком случае нельзя загораживать дорогу к очередному этапу.
— Дорога не будет короткой.
— И вас это радует?
— Нет, я спокойно констатирую факт.
— Отдаю должное вашему спокойствию. По нему можно заключить о вашей вере и непоколебимости. Только…
— Только на уме у вас не то, что на языке, — говорю я и резко добавляю: — Что за «только»?
— Только я беспокоюсь… А скорее, вы должны беспокоиться. У вас — в ту минуту, когда вы начнете сознавать, что количество переходит в качество, — хватит ли у вас силы духа дать сигнал остановиться?
— А почему вы думаете, что будет такой переход? И к тому же, о каких качествах и количествах идет речь? Будьте любезны, Лассу, выражаться точнее. Если в таком тоне…
Теперь мой черед думать, что мы и на самом деле видимся в последний раз.
— Пожалуйста, буду любезен, — отвечает он, — но должен попросить немного терпения.
— У меня его предостаточно. — Я не стараюсь уколоть, просто возвращаю уколы.
— У меня тоже. Тридцать лет прошло с тех пор, как я был в Венгрии в последний раз, и, естественно… Но даже отсюда я смог заметить некоторые вещи. Порой мне попадаются венгерские газеты. Они на целые страницы размазывают все, что могут выудить из заметочки в здешних газетах. От этого тошнит. Ничего, кроме плевков и ядовитой слюны. Я немного оговорился, когда сказал тут о количестве, которое будет переходить в качество. Оно уже перешло, уже родилось другое качество. Не демократическую диктатуру, а демагогический абсолютизм, вот что мы скоро получим.
Он глядит на меня, будто хочет просверлить насквозь.
— Ну, что ж, дорогой бывший безжалостно-стремящийся-к-добру, а теперь гласящий мелкобуржуазные…
— Белу Куна давно отпели, о нем едва ли вообще упоминают… А 1919-й? Было ли это вообще? А если было, разве у его вождя была задница вместо головы?
— Спокойнее, зачем так грубо? — увещеваю я его.
— Я знал Белу Куна еще раньше, чем вы. А сегодня некий товарищ, который знает детали жизни Куна не хуже меня, во всеуслышание фальсифицирует историю встреч Куна с Лениным, чтобы подогнать ее к биографии «великого вождя». К чему, куда это ведет? Это не ошибка суждения, нельзя сослаться на то, что он не знаком с фактами. Наоборот. И тот, кого восхваляют, и восхваляющий, оба равно знают — это бессовестное вранье. И все же распространяется заведомая ложь. А вы, Баница, знаете это так же хорошо. Знаете или нет?
— Кун тоже не был ангелом.
— Правильно. Но ответьте на мой вопрос. Правду я говорю или нет?
— Да. И это довольно противно.
— Противно! Не более того! Просто противно?
— Зовите, как вам нравится, Лассу. А вам никогда не пришло в голову, что меня засадили в этот дипломатический курятник именно потому, что я принадлежу к старой гвардии?
Он долго смотрит на меня. И потом говорит сипловатым голосом:
— Наконец-то вы проговорились, Баница. За искренность плачу искренностью. Может быть, я уже сказал раз, но повторю еще: мой глубочайший личный позор заключается в том, что не было ни малейшего повода меня арестовывать. Я вел себя тише воды, ниже травы, лежал тихонько, как дерьмо в кустах. Само собой, оправдание было под рукой: «то, что нас объединяет, важнее того, что нас разделяет». Разве было бы плохо, товарищ дипломат, поучиться чему-нибудь на моих ошибках? Пока еще есть время?
— Мы учили такие вещи: «Среди преступников молчание — соучастие».
— Кто это сказал?
— Один поэт, Бабич [3] Михай Бабич (1883–1941) — венгерский поэт.
.
— Не знал.
— В 1938 году. «Книга Йонаша».
— А, да. Но я и так бы ее не прочел… Тогда я был фанатическим приверженцем Ади [4] Эндре Ади (1887–1919) — венгерский поэт.
. Мы же по любому вопросу раскалывались на два лагеря.
— А Бабич хотел это изменить… Тоже слабость с его стороны.
— Со мной дело обстоит так — если я начинаю улавливать смысл происходящего, отречься от своего знания я уже не в состоянии. Послушай, Баница, — настаивает он совсем мягким тоном, — я знаю, что ты не трус. Именно поэтому для них ты — человек ненадежный. Понимаешь, в чем суть? Трус — это постоянный фактор, базируясь на котором они могут вести свои расчеты. Трус — это во все времена фундамент и опора существующего государства.
Читать дальше