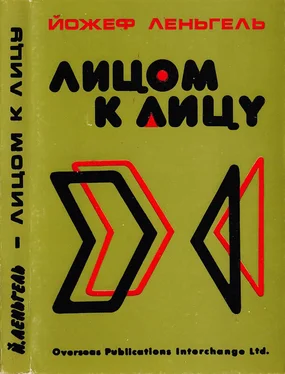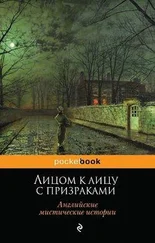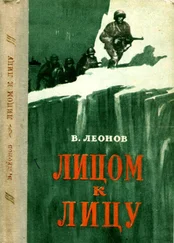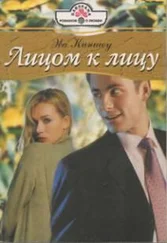— Верно, нужна операция, но в такое время и такими средствами, чтобы пациент не умер на столе.
— Но и так, чтобы успеть, пока инфекция не разрушит всего организма. Что-то мне кажется, Баница, что вас сильно пугает скальпель.
— А вас, Лассу, не испугали бы и реки крови.
Пожалуйста — сцепились насмерть, едва чокнувшись на брудершафт. Однако…
— Банди, ты полагаешь, что вся эта беседа к чему-либо ведет? — спрашиваю я, пытаясь как-то его успокоить.
— Пишта, я тебя очень люблю, вот что я полагаю, и поэтому…
— И поэтому ты хочешь меня спасти? А между тем, мы хватаем друг друга за глотки. Позволь мне сначала воспользоваться кратким перемирием. — Он смеется, я тоже. — Правду сказать, не перемирием, а миром. Я же хорошо знаю, что мы, партия, мы сплоченные воедино, мы — как Прометей, приносящий на землю огонь. Давай поговорим о том, с чем мы оба согласны: о Венгрии.
— Милая безопасная тема… если говорить вообще, без деталей, — он снова хмурится. — И не будем вмешивать сюда Прометея, ладно?
— Что-то не похоже на перемирие. И что ты имеешь в виду своим «вообще»?
— Только то, ничего больше. Вообще, без деталей. Я говорю с дипломатом, черт побери. Меня интересуют общие перспективы нашей внутренней и внешней политики.
— Сударь, вы мне оказываете большую честь.
— Сударь, вы ее достойны. Жаль, что вам мое отношение безразлично. Я уважаю вас и прекрасно вижу, что ваше положение далеко не просто. Венгру трудно преодолеть «комплекс одиночества», назовем его так, за неимением лучшего термина. Как говорил Кошут: «Нас, мадьяров, так мало, что нам следует прощать даже отцеубийство». Правильно?
— Слово в слово.
— Память у меня стала хуже. Особенно что касается цитат. Я уже бросил цитировать.
— Из-за этого не стоит беспокоиться, — ободряю я его, но он пренебрежительно отмахивается.
— Но если бы нам удалось победить в себе этот «комплекс» и не прощать отцеубийцу только потому, что он венгр, у нас было бы больше шансов устроить свою жизнь в согласии с заповедью: «человек человеку не должен быть врагом». Тогда мы достигли бы универсальной человеческой сферы. И тут у нас, венгров, есть одно преимущество, результат нашей малочисленности: ничто не заставляет нас быть солидарными с «великими народами». Вы понимаете меня?
— Нет.
— Нам не нужно стоять грудью за разные славянские или арийские, не говоря уже о туранских, идеалы, они всегда в корне ложны, их нам навязывают во имя какого-то несуществующего превосходства. Таким образом, нам легче объективно оценивать стремления развитых народов, так же, как стремления стран экономически отсталых, так называемых примитивных народов. Мы не принадлежим ни к тем, ни к другим. И к слову сказать, кое-кому не помешало бы знать, что Неру врос в культуру браминов прежде, чем к ней присоединилось кембриджское образование, — раза в три больше культурных ценностей, чем у наших государственных мужей.
— Это, однако, ничего не изменило. Экономическая отсталость Индии…
— Знаю, — прерывает он. — Так же хорошо, как и вы. Скоренько же вы сворачиваете в сторону! Лучше повернем обратно: я говорю о преимуществах нашего народа и малых народов вообще. Мы все знаем об экономических препятствиях и минусах, но не нужно забывать и плюсы. То, что мы — маленький народ и маленькая страна, дает нам огромное преимущество, нам не нужно стремиться заполучить атомную бомбу, ни для себя, ни для других. Мы с полной уверенностью знаем, что для нас не может быть победных войн, а только войны проигранные. В нашем положении мы можем предвидеть то, о чем «великие народы» догадываются лишь задним числом. Мы не нуждаемся в лживых лозунгах. Мы знаем, что можем жить только, если живут другие. Нам нельзя подписываться под двойной моралью. Простите меня, Баница, я не вел бы речь о таких вещах, которые, возможно, не совсем относятся к нашей теме, но у меня такое чувство, что мы разговариваем в последний раз.
Что он там говорит! Его рассуждения — скучища, а кроме того, я и сам не знаю, что мне следует думать. Не буду замечать этой путаницы у него в голове.
— Ладно, Лассу, ладно, — мне становится скучно и чтобы навести его на более общие вопросы, я говорю: — Не будете же вы отрицать, что есть буржуазная мораль и мораль пролетарская?
Я не очень искренен в этот момент, и он мне как-то меньше симпатичен, чем раньше.
— Я просто утверждаю, что наш народ, благодаря своей немногочисленности и разным историческим причинам, мог бы стать наилучшей почвой для воспитания интернационализма и человечности. Не только мог бы — может! Вот почему, по-моему, в Венгрии была возможна пролетарская диктатура в 1919 году.
Читать дальше