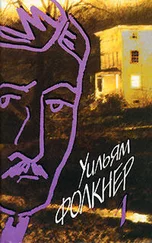-- Ничего? -- говорил папа. -- Да ты сейчас стоя спишь.
-- Нет. Здоров я.
-- Я хочу, чтобы он сегодня посидел дома, -- говорила мать.
А папа:
-- Он мне нужен. Спасибо, если все-то управимся.
-- Придется вам с Кешем и Дарлом налечь, -- говорила мама. -- Я хочу, чтобы он посидел дома.
А он отказывался: "Я здоров", -- и шел с нами. Но он не был здоров. Это все видели. Он худел, и я замечал, что он засыпает с мотыгой; видел, как мотыга движется все тише и тише, поднимается все ниже и ниже, а потом совсем замрет, и он, опершись на нее, тоже застынет в жарком мареве.
Мама хотела позвать доктора, но папа не хотел понапрасну тратить деньги, а Джул в самом деле был на вид здоров - если не считать худобы и того, что засыпал на каждом шагу. Ел он хорошо -- только мог заснуть над тарелкой, не донеся хлеб до рта, и дожевывал во сне. Божился, что здоров.
Доить за него мама пристроила Дюи Дэлл, -- как-то платила ей, -- и домашнюю работу, которую он делал до ужина, тоже переложила на Дюи Дэлл и Вардамана. А когда не было папы, делала сама. Она готовила ему особую еду и прятала для него. Так я узнал, что Адди Бандрен может таиться, а ведь она нас всегда учила: обман это такая штука, что там, где он завелся, ничто уже не покажется чересчур плохим или чересчур важным -- даже бедность. Случалось, когда я приходил спать, она сидела в темноте возле спавшего Джула. Я знал, что она проклинает себя за обман и проклинает Джула за такую любовь к нему, из-за которой должна заниматься обманом.
Однажды ночью она заболела, и, когда я пошел в сарай, чтобы запрячь мулов и ехать к Таллу, я не мог найти фонарь. Я вспомнил, что прошлым вечером видел его на гвозде, а теперь он куда-то делся. Я запряг в темноте, -- была полночь, -- поехал и на рассвете вернулся с миссис Талл. Фонарь -- на месте, висит на гвозде, где я давеча искал его. А потом, как-то утром, перед восходом солнца Дюи Дэлл доила коров, и в хлев вошел Джул, -- вошел через дыру в задней стенке, с фонарем в руке.
Я сказал Кешу, и мы с Кешем посмотрели друг на друга.
-- Гон у него, -- сказал Кеш.
-- Ладно. А зачем фонарь-то? Да еще каждую ночь. Как тут не отощать? Ты ему что-нибудь скажешь?
-- Без толку, -- ответил Кеш.
-- А от шлянья его тоже не будет толку.
-- Знаю. Но он должен сам это понять. Дай срок, сам сообразит, что никуда оно не денется, что завтра будет не меньше, чем сегодня, -- и он опамятуется. Я бы никому не говорил.
-- Ага. И я Дюи Дэлл сказал, чтобы не говорила.
Маме хотя бы.
-- Да. Не надо маме.
Тогда все это мне стало казаться потешным: и что он такой смущенный и старательный, что ходит как лунатик и отощал до невозможности, и что считает себя таким хитрецом. Мне любопытно было, кто девушка. Я перебирал всех, кого знал, но так и не смог догадаться.
-- Никакая не девушка, -- сказал Кеш. -- Там замужняя женщина. Больно лиха да вынослива для девушки. Это мне и не нравится.
-- Почему? -- спросил я. -- Для него безопасней, чем девушка. Рассудительней.
Он поглядел на меня; глаза его нащупывали, и слова нащупывали то, что он хотел выразить:
-- Не всегда безопасная вещь в нашей жизни -- это...
-- Хочешь сказать, безопасное -- не всегда самое лучшее?
-- Вот, лучшее, -- сказал он и опять стал подбирать слова. -- Это не самое лучшее, не самое хорошее для него... Молодой парень. Противно видеть... когда вязнут в чьей-то чужой трясине... -- Он вот что пытался сказать. Если есть что-то новое, крепкое, ясное, там должно быть что-то получше, чем просто безопасность: безопасные дела -- это такие дела, которыми люди занимались так давно, что они поистерлись и растеряли то, что позволяет человеку сказать: до меня такого ни
когда не делали и никогда не сделают.
Мы никому не рассказывали, даже после того, как он стал появляться на поле рядом с нами, не зайдя домой, и брался за работу с таким видом, будто всю ночь пролежал у себя в постели. За завтраком он говорил маме, что не хочет есть или что уже поел хлеба, пока запрягал. Но мы-то с Кешем знали, что в такие ночи он вообще не бывал дома и на поле к нам выходил прямо из лесу. И все-таки мы не рассказывали. Лето шло к концу; ночи станут холодными, и, если не он, так она скажет: шабаш.
Настала осень, долгие ночи, но все продолжалось, с той только разницей, что по утрам он лежал в постели, и поднимал его папа -- такого же обалделого,
-- Ну и выносливая, -- сказал я Кешу. -- Я ей удивлялся, а теперь прямо уважаю.
-- Это не женщина.
-- Все-то ты знаешь, -- сказал я. А он наблюдал за моим лицом. -- Кто же тогда?
-- А вот это я и собираюсь узнать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу