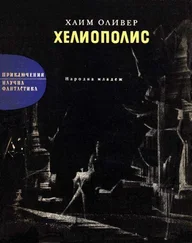Реб Авром-Аба прямо застонал: это его и мучит! Он всегда хотел, буквально жаждал ходить по свету как глухонемой. По этой причине он не стал раввином, ведь раввин обязан слушать, что говорят люди, и сам говорить, а лавочник — не обязан. Правда, лавочник тоже не может быть полным отшельником и молчуном, однако он не обязан пребывать в постоянном тесном общении с целым городом обывателей. Однако с женой невозможно быть глухонемым. Поэтому Годл не находила с ним общего языка и высказывала претензии, что он притворяется, будто не знает, что идет война, что государства сменяют друг друга, а деньги обесцениваются. Единственное, что он делает, кричала она, это стоит, как стражник, и смотрит, как бы она не завысила цену товара. Конечно, Басшева Раппопорт — человек иного рода, но и она не сможет ужиться с таким молчуном, таким нелюдимом, как говорят про него люди, тем более что она осталась одна, без детей. Ему ведь придется быть с ней более общительным, более разговорчивым. Разве это в его природе, даже если бы он этого захотел? Реб Авром-Аба закрыл свою книгу и пожал плечами. Что с ним стало? Он сделался мечтателем! Она еще не приезжает. Может быть, она останется у сына. Так зачем же ему раздумывать о том, как вести себя с ней?
Одна покупательница спросила, есть ли у него гречка, и реб Авром-Аба ответил, что есть целый мешок. Но где этот мешок стоит в его лавке, он не помнил. Другая спросила, сколько лавочник насчитает ей за осьмушку фунта дрожжей и дюжину яиц. Реб Авром-Аба наморщил лоб, но так и не смог вспомнить, сколько стоят эти товары. Хозяйки обменялись удивленными взглядами. До сих пор не случалось такого, чтобы разведенный раввин не мог, стоя за прилавком, показать пальцем, где находятся те или иные товары, и не помнил бы своих расценок. Вошел маленький еврейчик в шапке, с шеей, укутанной в женский платок по самые уши, в тонком летнем пальтишке посреди зимы и в больших тяжелых солдатских ботинках. Было похоже, что он купил их у солдата-дезертира. Этот еврейчик растирал свои замерзшие руки и пританцовывал.
— Холодно, реб Авром-Аба! Что вы скажете, реб Авром-Аба, холодно, а?
— Да, холодно, — проворчал лавочник и снова открыл свою рукописную книгу, похожую на настоящую. Однако, когда любопытный еврей собрался заглянуть туда, лавочник сразу же закрыл ее, да еще и поставил локоть на прилавок, чтобы любопытный посетитель не мог перелистать страницы. Реб Авром-Аба знал, что почти никто либо ничего не поймет там, либо посмеется над его книгой, в которой он выписывал векселя на духовность — квитанции на добрые деяния, жемчужные идеи из печатных книг, законы из кодекса «Шулхан орух», заповеди из Торы, например о том, чтобы возлагать тфилин каждый день. Больше всего смеялся бы его ученик Гавриэл Раппопорт. Он всегда хотел слышать только что-нибудь новое и часто утверждал, что в том, что говорит ребе, нового нет ничего. Ведь буквально так и сказано в Геморе, в «Тосфойс». Как обманывают себя люди! Им понятно, когда богач постоянно подсчитывает про себя, сколько денег лежит у него в банке. Но люди не понимают, что, когда переписываешь для себя законы и правила доброго поведения, они становятся как бы твоим собственным достоянием, собственной нравственной сокровищницей.
— Плохо без жены, реб Авром-Аба, плохо! — Еврей с замерзшими руками искал бумагу, чтобы завернуть скользкую, маслянистую селедку. — Ладно, обо мне речь не идет. Прежде всего, я вдовец только второй год, а во-вторых, кто на меня польстится? Но вы же сидите без жены уже много лет. Разве это можно?
— Если жизнь без жены не приводит к соблазнам и не отвлекает от изучения Торы, тогда можно, — улыбнулся лавочник.
Он действительно хотел ходить мимо суеты сует этого света как глухонемой. Тем не менее он был способен терпеливо выслушивать людей и отвечать, если видел, что, выслушивая человека, нуждающегося том, чтобы выговорить боль своего сердца, он делает для него доброе дело.
Так прошло какое-то время, а реб Авром-Аба все не получал никаких вестей от Раппопортов, ни от матери, ни от сына. И он постепенно вернулся к своему повседневному богобоязненному распорядку жизни. Дело шло уже к Пуриму. В один прекрасный день снег начал таять, лед на краях крыш стал влажным и сверкал на солнце. В лавке Зеликмана с грязным, затоптанным полом женщины покупали продукты для праздничной трапезы Пурима и разговаривали между собой о приготовлении различных блюд. Реб Авром-Аба за прилавком на этот раз не заглядывал ни в какую книгу. Он прочитал предвечернюю молитву и даже не посмотрел на женщин, которые копались в товарах и шумели. Он верил, что ни одна из них, взвешивая товар, не возьмет лишнего, ни одна не обсчитает его при оплате, особенно когда они стоят все вместе, и каждая видит, что делает ее соседка. Но если бы даже нашелся кто-то, не особо щепетильный по поводу чужой собственности, реб Авром-Аба принял для себя решение относиться к своему имуществу как к бесхозному, чтобы на таком человеке не было греха кражи. В тот момент, когда он закончил молитву, лавочник услышал знакомый голос:
Читать дальше