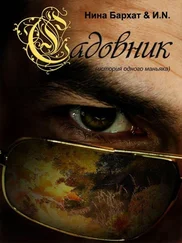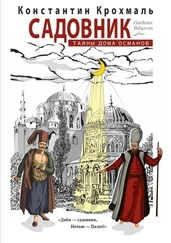В детском саду нас приобщали к огородничеству. Ежеутренне поливая фасоль и лук, мы дождались оробелых всходов — и с криками «ура» принялись подбрасывать в небо лейки. Одна угодила мне в лоб. Операционного стола не помню, но шрам прощупывается до сих пор.
Когда мы с моей второй женой Эстой сняли первый этаж домика, где я прожил без малого шесть лет, бурый песок двора, обнесенного колючей проволокой, вызвал у новоселов коллапс.
Но Михаэль, выходец из Анталии, по-соседски нарезал два десятка упругих побегов. С тех пор в моем окне благоухал цветник. Обиходя участок, я наблюдал, как несколько видов растений, дерущихся не на живот, а на смерть, оплетают ржавую ограду. Захватил пространство вьюнок с фиолетовыми колокольчиками: его лепестки и стебли оказались эфемерней и гибче. В один прекрасный день я присмотрелся вновь: угроза внешней экспансии миновала — и победоносные ветви, борясь за ультрафиолет, столь же непримиримо стали теснить друг дружку…
И вот я говорю: Ницше — порицая в «Веселой науке» сострадание, отвлекающее души философов от осиянного шествия в Валгаллу, — не осознавал над собою ножниц Садовника. Реформатора морали сразит безумие после сцены на площади Карло Альберто: где он, обнимая исхлестанную кучером лошадь, перегородит путь туринским экипажам…
И бельгийца Эмиля Верхарна, погибшего в 1916 году под колесами поезда в Руане, — разве не настигло таким образом одно из щупалец города-спрута, столь громогласно преданного поэтом анафеме?
И Стефану Цвейгу была явлена весть о том, что сочинения для сцены ему абсолютно противопоказаны. Всякий раз, как он завершал очередную пьесу, предназначавшуюся кому-либо из видных актеров или режиссеров — знаменитость покидала сцену либо и вовсе земные чертоги. Но писатель не задумался над сюжетом судьбы — и подался в либреттисты к Рихарду Штраусу. И имя еврея — еще в Зальцбурге жившего прямо напротив фюрера — жалким петитом тиснули на афишах оперы о тысячелетнем рейхе. Самоубийства он, подвергнутый бойкоту в эмиграции, кажется, мог бы вполне избежать…
А Пушкин — разве не предсказал он в «Пиковой даме» возраст своей гибели — 37 лет: «тройка, семерка, туз»? Разве этот «туз» не прозвучал так же метко, как выстрел мстящего за Бонапартово фиаско Дантеса!..[3]
Ах, полно: кто из нас простирал зоркость звездочета на угли, тлеющие в собственном сердце? Да и хватило ли безумных рукописей одного сбившегося с орбиты Велимира для обогрева сотен тысяч озябших малышек?..
Старина Алявдин — знай он загодя, что его козни приведут к воплощению моей мечты: что я увижу живых Тарковского и Самойлова, объеду за казенный счет всю Евразию, начну печататься в центральных журналах, а лекции мне будут читать слависты с мировым именем, — несомненно, допустил бы меня к экзамену и, впаяв чахоточный трояк, пожелал бы увесистого кирпича мне на голову. Но он для визионера был чересчур зашорен. И потому иезуитски меня истязал, выуживая из задания все новые серии ошибок, откровенно противоречившие предыдущим исправлениям…
— Послушайте, — увещевал я его в одну из аудиенций, — я ведь и так достаточно наказан!
— Достаточно, полагаете вы? — хихикал он жабьими глазами. — Лично мне так не кажется…
Один раз я даже апеллировал к святой русской литературе:
— Да проявите ж вы наконец милосердие!
— Какое еще милосердие?! О чем вы говорите! — поморщился сорокалетний доцент эпохи вяленого социализма.
Отец пытался подключать связи. Знакомый его знакомых, сам преподаватель, выслушав мою исповедь, подытожил:
— Значит, вы вздумали правду искать? Что же, в наше время это весьма оригинально!
Никто не сумел помочь. Я нанялся ночами заливать каток. Поскальзываясь в обледенелых валенках — как сказочный мангуст на кобру — бросался на шуршащий впотьмах шланг. Редкий фигурист чиркал пируэтом по кристаллическим отблескам звезд, воскрешавшим подлинный, забытый смысл несказанно глубокого слова «твердь»…
В одно из утр, кутаясь в ватник по пути домой, я разглядел спешащего Мильчмана. Андрей, по обыкновению, заметно сутулился, зажав под мышкой гигантский градусник тубуса.
— Такая петрушка: я оказался удачливей тебя… — сморгнул альбинос накатившую слезу.
Затем, года на четыре, он как в воду канул. После армии я восстановился на втором курсе, зимой приехал на побывку в Нимфск. В кофейне опереточного Троицкого предместья, всколыхнувшей ностальгию, встретил Вано — того самого бритого латиниста, который в пору отчисления в одиночку вступился за меня. Я обрадовался: расфуфырясь Хлестаковым, пустился трындеть ему столичные байки. Игорь печально развел руками:
Читать дальше