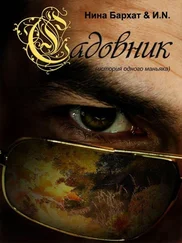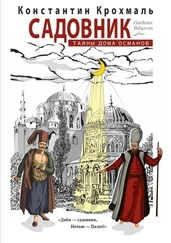Как-то, взвинченный, я нанес Пахомову ответный удар в челюсть: пока тот соображал что к чему — меня и след простыл. Опасаясь его явного физического превосходства, я крутился перед штабом, давая понять, что мог бы его «застучать», но не делаю этого из уважения к негласным солдатским правилам. Только когда он остыл, я вернулся в казарму.
Не стану приводить всех своих заслуг перед отечеством. Скажу только: предложение майора Пеккера, ответственного в нашей части за противохимическую оборону, пришлось как нельзя кстати. Мне и двоим салагам выдали сухой паек. В сопровождении рыхлого антрепренера наша труппа отбыла в черниговском направлении.
Миляга Пеккер лицом был багров. Оттенок этот придавало пьянство, но чудилось: он перманентно краснеет за свое происхождение.
— Развеетесь немного! — в купе подмигнул майор.
Прибыв на учебные сборы, я влез в невкусную резину защитного комплекта и принялся вместе со всеми трусить по лютиковой поляне — то и дело плюхаясь под вопль: «Заражение с воздуха!» Знали б горлодеры, как мало времени оставалось до реальной радиации — близлежащий источник которой — увы! — окажется наземным…
Духота стояла неимоверная. На полминуты нас оставили без присмотра. И я, приметив стайку «сачков», кубарем скатился в ежевичные заросли. На берегу, скинув мамонтову шкуру, натурализовался и — бултых! — в благословенную Десну…
Сказать по чести, в «старики» я так никогда и не выбился, но здесь — в августовской командировке — бойцы-одногодки приняли меня по-свойски. После ужина, извлекая из камышей плоскодонку, мы подгребали к духмяному селу на юру. Все там уродилось: яблоки — как дыни, голуби — как индюки. Смешливые дивчины, сплевывая лузгу, внимали нашим уговорам до полуночи. Однажды, проголодавшись, мы влезли к кому-то на веранду.
— Хлопцы, — высунулся заспанный хозяин, — берите кринку, буханку — и улепетывайте: не то барбоса спущу!
В напарники по самоволкам я избрал смышленого тюрка и скакал с ним по холмам наобум, насвистывая песенку Никитиных про Птицелова. Найдя на огороде пастушью шляпу, прихватил с собой и — куролеся за столиком кафе — заломил поля, нахлобучил солому. Две студенточки, с нами балакавшие, давились мороженным со смеху.
— Ты, паря, фор-рму не позорь: другие за нее кр-ровь проливали! — сунулся с назиданием какой-то сушеный груздь.
— Ступай проспись, мужик! — лениво отстранил я его за локоть.
Выйдя на воздух, мы нарвались на чин местной комендатуры.
— Стоять! — рявкнул подполковник, вылупясь на наши петлички. — Ага, железнодорожники! Как фамилии?
— Рядовой Иванов! — сплоховал потомок Тамерлана, позабывший о своей предательской внешности.
— Рядовой Куравлев! — вспомнил я почему-то комического киноактера.
— Вот ты соврал, — разоблачил моего спутника тонкий психолог, — а он правду сказал!
И приказал:
— Ну-ка, щас же мне военные билеты!
Мы оба сунули руку за пазуху, переглянулись — и давай наутек. Выручило такси, выруливавшее со двора. Патрульный «газик» за нами не угнался.
В одном из букинистических магазинов Чернигова мне попалась куртуазная «Фламенка», некогда обожаемая самим Блоком. Энц Арчимбаут, эн Арчимбаут, наконец — с апострофом — н’Арчимбаут: на все лады поддразнивал безымянный автор осатанелого ревнивца-мужа. Наряду с томиком Мандельштама, книжка эта укомплектовала мою походную библиотечку. Пряча провансальскую поэму под наволочкой, я не подозревал, что с ее переводчиком Анатолием Найманом пересекусь дважды — в Иерусалиме, на постсоветском слете славистов, а затем, спустя два месяца, — в Москве: по чистейшему совпадению поравнявшись с ним на мостике в подземке…
Секретарь Ахматовой и приятель нобелевского лауреата спросит меня напрямик в редакции «Октября»:
— Вы что же, хотели бы вновь здесь поселиться?
— Ни за что! — вздрогну я, пять лет к тому времени прозябавший на Ближнем Востоке.
На вопрос, поставленный подобным гипнотическим образом, зачастую отвечаешь автоматически. Браваду апатрида он примет за чистую монету: не догадываясь, что мне попросту негде приткнуться в первопрестольной…
Да, меня не судили за тунеядство совдеповские маразматики, не ссылали к черту на кулички, обязавши исполнять принудительные работы. Со мной было иначе: все шито-крыто, без своевременной шумихи на Западе. Никакой тебе добровольной стенографистки, никакого столпотворения журналистов и поклонников. Но и никакого двухнедельного отпуска, никаких публикаций за кордоном. Одни лишь побои, оскорбления, ненависть: и все это втихаря, без публичных заявлений о правах человека.
Читать дальше