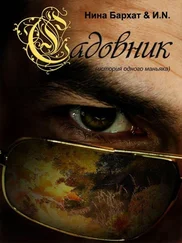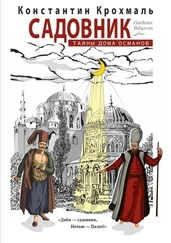— Ясное дело — девчонки! — поддался я самому примитивному из всех сепаратистских соблазнов.
До генерального сражения не дошло: классная руководительница перехватила депешу.
— Итак, имя зачинщика? — завела она указку за спину.
Сломленный Витька указал на меня…
Я отрешился от суетности мира — ограничась выпуском стенгазеты. Сокол же, наоборот, наращивал авторитет.
Однажды он обозвал Леночку жидовкой. Не дала ли она списать контрольную, буркнула ли в ответ чересчур заносчиво — что, подчеркиваю, и вправду за ней водилось — уже и не вспомню. Важно, что никто, включая меня, его не одернул. Были еще евреи: Оля Веннер и Юра Стельмах, но в классном кондуите те писались «бел.», и только мы вдвоем с Гантман — «евр.»…
И вот — ком покатился! Ликуя от безнаказанности, колхозные байстрюки доводили свою жертву до белого каления: дергали за косички на переменах, лезвием срезали пуговицы с пальто. А я — анахоретски мусолил карикатуры на двоечников.
Наконец, бедняжка не выдержала: перевелась в другую школу. Директор Подоматько выстроил нас в учительской — грозно рыча о евреях и русских, плечом к плечу воевавших с фрицами. В подобной апологии я не нуждался, но трусостью своей поставил себя в один ряд с кухаркиными детьми.
И вот, сейчас я очнулся в ином строю — где уже не щадили меня самого. Для старослужащих я был салага, для молодняка — икринка не их нереста, для зауральской урлы — рафинированный московский франт, для иногородних — дорвавшийся до родных пенатов везунчик. И для подавляющего большинства — персона нон грата, безродный отшельник, подозрительно бормочущий в рифму.
Разгребая со мною снег, мордоворот Горшунов — хоть и призвался на полгода позже — отшвырнул скребок и схилял в котельную. В итоге я пыхтел вдвое дольше и напрочь выбился из распорядка. Сержант Бембель наложил на меня взыскание. Алчущий справедливости, я взвился: не моя вина! Но авторитарный солдафон поквитался со смутьяном: соврал Горшунову, будто я наябедничал прапорам. За это раскормленный кабан подстерег меня и дьявольски отколошматил. При этом замечу, что Бембель, щекастый квартерон, до армии терся в днепропетровском инъязе. Горшунов же, студент Гнесинки, лихо наяривал «Хава нагилу» — переняв ее мотив у сокурсников-евреев…
Что это? Напоминание о девочке-пианисточке, затравленной курносыми шалопаями? Не отсиделся ли я за своей польской флексией, покуда немецкие фамилии евреев — концлагерных недобитков — вызывали ксенофобское послевкусие у их широколицых освободителей? Мог ли я — со второго класса оттесненный на задний план — в одиночку противостоять той охоте на ведьм? Или вынужден был бы, заодно с Леночкой, подыскивать себе другую alma mater? Не подтолкнул ли я невольно к женоненавистничеству Соколовского — избравшего мишенью дочь того племени, неприязнь к которому культивировалась у него дома?..
Ну, ты и загнул: покаянию тоже ведь есть предел! Витька — он тот еще бабник! Хоть, на свою беду, и воспитанный в нетерпимости. Временами он пробовал пройтись и по тебе, но ты не робел — давал отпор: помня о его отступничестве. Классе в восьмом он прикипел к бас-гитаре, забухал с ансамблем и, так и не окончив Политеха, умер от метастаз…
И потом, ответь: с ивритской песней на устах не ты ли взмывал в поднебесье на ветряном колесе обозрения — изобретении рыцаря из Ламанчи, — пока твой alter ego Горелик старательно разучивал заикание (подобный изъян, он уверял, вызывает снисхождение)?.. Ужели за свой протест против погромного массового отчисления ты сподобился тумаков от ленивого лабуха — теми же лапами вчуже бряцавшего дорогой твоему сердцу мотив?!
Отнюдь. Просто даровавшая тебе первый поцелуй Элла была для тебя шансом искупить грех невмешательства, связанный с беззащитной Леночкой — твоей одноклассницей и ее однофамилицей. А уж коли ты этой аллюзии не раскусил и — рассиропив легковерную сиротку — отца родного выставил в фальшивом свете, то и Садовник Судеб покарал твою дерзость: отняв у тебя и строительный диплом, и право воспитывать собственную дочь! И дразня шаловливой подсказкой памяти: именем неведомого тебе прораба Гантмана.
О Литинституте я впервые услышал от Юры Эбера, но тот ничего путного не сообщал, а я не стал углубляться. Название факультета — ПГС: промышленное и гражданское строительство — меткой копией опорных согласных стреножило Пегаса, введенного не в то стойло (принцип арамейского письма дремал в моих клетках). Попав на первую лекцию, я ужаснулся: среди какого плебса пять лет обречен прозябать! Масластые посланцы квелых болот запрудили аудиторию жеребячьим восторгом. «Опалубка», «портландцемент», «консольная балка» — всей этой галиматьей они живо интересовались: рассчитывая с помощью мастерка окопаться в крупном городе. Но я всем иным инструментам предпочитал гусиное перо и, не вникая в догматы марксизма, обсасываемые имбецилом Сивограковым, невозмутимо шпиговал средневековой атрибутикой поэму о детском крестовом походе…
Читать дальше