Стоило мне мысленно произвести слова «до войны», и я увидел его, то прекрасное время. Мы жили в нём, учились, дружили, гуляли, говорили о прочитанных книгах, сердились друг на друга или чему-то радовались, ко мы совсем не думали о том, как прекрасно это время именно тем, что оно мирное.
«До войны», — подумал я. Всё, что было моей жизнью, моими радостями, моими надеждами осталось там, «до войны». Что сейчас делает девушка Нязик, с которой мы вместе ходили в драмтеатр. Она нравилась мне, и я робко признался ей в любви, так робко, что она, по-моему, и не заметила этого. О чём думала она в эту минуту — быть может тоже обо мне, и мысли её, подобно стене, оберегают меня от несчастий.
А мама? Что делает она сейчас, вот в эту секунду, уже постаревшая от ожидания писем от своих пятерых сыновей, ушедших на фронт; что думает и что делает она, оставшись во главе большого семейства среди невесток, внуков и правнуков. Я уверен, что она не жалуется на судьбу, а мужественно преодолевает все невзгоды.
Удивительно, какие мысли приходят в голову в самое неподходящее время, только что думал о любимой девушке и о старой матери, и вдруг стал тут же думать о судьбе нашего туркменского драматического театра, пытаясь вспомнить отдельных актёров, тех, кем я восхищался, и тех, кто не нравился, пытался вспомнить наш репертуар в последний довоенный год и наш последний спектакль, в котором мне и Нязик достались крошечные роли, которыми мы были безмерно горды.
Кто из актёров остался, кто ушёл на фронт? Кому суждено вернуться с этой войны и что буду делать я сам? Неужели человек так устроен, что, забыв об окружающей, среди опасностей и смерти он способен настолько забыться, чтобы думать, вот как я сейчас, о предметах совсем посторонних.
И снова, перемежаясь с явью, похожей на забытье, потянулась ночь. Она была наполнена призраками иных времён, ушедших в далёкое теперь прошлое, и только как напоминание о настоящем сквозь чуткую дрёму врывались признаки сегодняшней яви — далёкий разрыв снаряда, вой самолёта, идущего на посадку, пулемётная очередь.
И снова в мучительном волненьи я дождался рассвета. Он наступал не торопясь, ленивый, серый, мутный. «Неужели всё кончено, — пронеслось в мозгу. Неужели никогда я больше не увижу пушистые волосы и вздёрнутый носик Любы, не встречу прямой взгляд Нади?»
Выстрел! Он заставил моё тело напрячься, как перед прыжком, через несколько секунд за выстрелом последовал взрыв. Я быстро добрался до отверстия в крыше и остолбенел — дом неподалёку, где, судя по всему, была штабная канцелярия, пылал. К нему неслись солдаты, а со стороны аэродрома готовились мотоциклисты с пулемётами, установленными в колясках, и слышны были чёткие крики офицеров.
Я лёг у самого края сеновала. Сжимая автомат и готовый ко всему, может быть даже к последнему бою. Не только слухом, всеми порами тела я вслушивался в темноту, которая была моим главным защитником в эту минуту. Сквозь открытые ворота бывшей конюшни доносились разноголосые крики и тарахтение мотоциклов, затихавшие вдалеке. Но что это? Мне послышался лёгкий скрип. Я узнал его сразу — так могло скрипеть только сухое дерево лестницы, ведущей на сеновал. Но это был осторожный, робкий скрип под ногой человека, не поднимавшегося, а кравшегося, стараясь ступать так, чтобы не было слышно даже и этого скрипа. Сердце у меня забилось так, что его, по-моему, могли услышать и немцы. Люба? Надя? Или тот, из-за кого взлетел в воздух дом напротив?
Я отступил в угол сеновала, готовый ко всему. Вот ещё раз скрипнуло, и невысокая, едва угадываемая в полумраке фигура проскользнула на сеновал. Спустя секунду послышался шёпот:
— Нуры, где ты… Нуры!
— Надя, — позвал я, — Надя…
Она вздогнула и обернулась, не видя меня вначале. Мы приближались друг к другу в темноте, пока её руки не коснулись меня.
— Нуры!
— Надя!
Она обняла меня и я почувствовал, что она насквозь промокла и дрожит. Она обнимала меня крепко, исступлённо, как будто простилась со мной уже навеки, а теперь чудом обрела снова. Губы её, касавшиеся моих щёк, пересохли от жара, и она повторяла как в забытьи: «Нуры… Нуры, дорогой…».
Только несколько минут спустя меня вдруг пронзила мысль о том, что Надя одна. И отстранив её, я спросил, уже угадывая, но не желая верить, в непоправимое:
— Надя, а где Люба?
Надя рыдала, обнимая меня, словно цепляясь за спасательный круг. Её била дрожь, слёзы текли по её и моему лицу, она ничего не говорила больше и не звала меня по имени, и я понял её ответ. Она опустилась на солому, словно силы оставили её окончательно, вытянулась и, вздрагивая от громких рыданий, которые не могла сдержать, стала потихоньку затихать.
Читать дальше
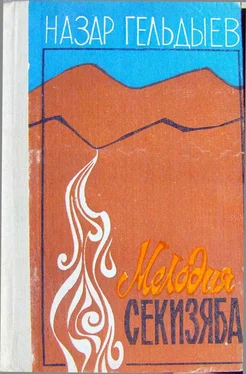
![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](/books/67136/anatolij-afanasev-melodiya-na-dva-golosa-sbornik-thumb.webp)





![Евдокия Ольшанская - Мелодия осени [сборник стихотворений]](/books/394612/evdokiya-olshanskaya-melodiya-oseni-sbornik-stihotvo-thumb.webp)




