— Судя по обстановке, Нуры. Прощай.
— Не прощай, а до свидания. — Счастливого пути вам с Любой. И ради бога — не горячитесь…
Я довёл девушек до края сеновала, и мы расстались. Я остался один в темноте, крепко сжимая автомат. Я вслушивался в тишину и всматривался в темноту, готовый в любую секунду броситься на помощь, если услышу автоматные очереди. Но было тихо, если считать, что может быть тихо в прифронтовой полосе.
Я лежал в соломе, не выпуская автомата из рук. Мне было восемнадцать лет без одного месяца. Я уже два месяца был на фронте, видел смерть десятков людей, а теперь и сам был на волосок от гибели. Но я не думал о себе и об опасности, которая может мне грозить гибелью в любое мгновение. В тишине, которая тянулась бесконечно, и в полной и кромешной темноте я думал и тревожился о людях, которые были для меня сейчас самыми близкими на земле: о неведомом мне партизанском отряде и партизанском проводнике по имени Петро и моем друге Бекене, о других ребятах из отделения, но главное — о Любе и Наде, двух хрупких девушках, идущих сейчас лесной тропой, неся за спиной вещмешки со взрывчаткой, чтобы выполнить свой долг. Но разве для этого они были рождены? Им бы радоваться жизни, учиться, назначать свидания и читать книги. Вместо этого они идут почти на верную смерть ради того, чтобы немецкие эшелоны не могли перебраться на другой берег реки.
Я знал, что не в моих силах ни прекратить, ни хоть на секунду прервать эту войну. Я знал, что самое глазное, что должен сделать я, Нуры Караев, это как можно скорее набраться сил и вернуться, в строй, где я мог бы заменить хотя бы одну из этих девушек. Я должен был заставить себя уснуть, но вместо этого я только погружался в забытье и выныривал из него, вглядываясь в пустую и угрожающую темноту, готовый ко всему. Затем снова расслаблялся усилием воли и снова засыпал с тем, чтобы через несколько минут проснуться в тревоге.
Зачем человеку даны чувства? Ведь умом я понимал, что не они, эти девочки, ещё не достигшие расцвета, не любившие, не успевшие ничего повидать, не они должны пробираться сейчас навстречу врагу через ночной лес, неся на своих полудетских плечах килограммы тола и взрывчатки. Если уж надо было делать, то мне, пусть мне тоже было только восемнадцать лет, пусть я тоже был молод и не узнал ещё жизни, но я был солдат. Пусть даже я ещё раз наскочил бы на засаду — я мог отстреливаться, я мог быть убит, но и сам мог бы убить фашистов, и коли суждено мне было именно так кончить свою жизнь, я кончил бы её со спокойной совестью, как свободный человек, защищающий свою землю.
Но я лежу, зарывшись в сено, в относительной, но всё же безопасности, со мною рядом мой автомат, а они… где они? живы ли они? Пот катился по мне градом. Я вскакивал, снова падал в сено, я прислушивался к каждому шороху, мне хотелось выкрикивать слова проклятья этому миру, который посылает на смерть своих детей, а иногда мне хотелось просто заплакать, заплакать от обиды и бессилия. Но больше всего на свете мне хотелось, чтобы наступило утро и снова Люба и Надя вернулись сюда.
* * *
И вот рассвет наступил, но они не вернулись. Жиденький серый свет возвестил о наступлении утра. Я уже давно потушил крошечный огонёк коптилки, пробрался в дальний угол и сдвинул одну из досок крыши. Крупные холодные капли то и дело залетали в отверстие. Значит, шёл дождь. Я не знал, сколько прошло времени с тех пор, как рассвело, но подождав ещё, вдруг с полным сознанием понял, что ни Люба, ни Надя сегодня не вернутся. Добрались ли они хотя бы до цели сквозь немецкие заслоны? Сидят ли где-нибудь в укрытии, наблюдая, или лежат недвижимо под нескончаемым проливным дождём? Вернутся ли они этим вечером, или не вернутся уже никогда? Хорошо это или плохо, что их нет — ведь недаром в народе говорят, что если гонец не возвращается, значит, он выполняет поручение. Да, вот так и должен я думать о Любе и Наде. Почему только мрачные мысли у меня в голове? Я должен, должен верить, что они живы. Живы и вернутся. Живы и будут ещё долго живы. Да, именно так я должен думать и верить, и моя вера поможет им уцелеть там, где они сейчас. Да, они живы, живы… они вернутся, и мы снова будем по очереди пить чай из алюминиевой кружки и говорить о том, как хорошо будет, когда окончится война…
Но лучше всего было бы, если бы они уже были здесь.
Я метался по чердаку, не находя себе места. Неужели я успел так привыкнуть к этому жалкому жилищу, и к своей ране, и к своему ожиданию. Чтобы как-то отвлечься от одних и тех же мыслей, я то наблюдал суетливое движение редких легковых и грузовых автомашин у аэродрома, то пытался сосчитать количество взлетевших и садившихся на аэродром самолётов. Мне казалось, что я весь пронизан током, когда я стоял, мне хотелось сесть, когда сидел — хотелось ходить из угла в угол, когда думал о войне, что заполнила всю страну из края в край — я вспоминал о мирных временах, и тут же сразу — о тысячах и миллионах людей, которые в это самое время сражаются с врагом, на которого я, бессильный что-либо предпринять, смотрю сейчас в бессильной ярости, отодвинув доску на крыше сарая.
Читать дальше
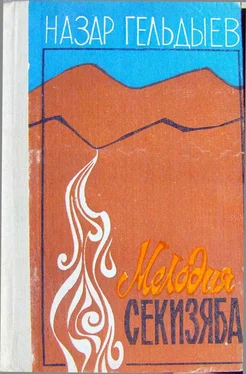
![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](/books/67136/anatolij-afanasev-melodiya-na-dva-golosa-sbornik-thumb.webp)





![Евдокия Ольшанская - Мелодия осени [сборник стихотворений]](/books/394612/evdokiya-olshanskaya-melodiya-oseni-sbornik-stihotvo-thumb.webp)




