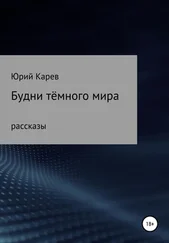Она со стоном упала на стул, вся поникла, сжалась в комочек. А я смотрела на нее: господи, какая худышка, кожа да кости! Муж мой покойный всегда говорил, что у таких худых людей обязательно бывают слабые нервы. И про Эдит он говаривал в те поры, что, должно быть, нервы у нее никудышные.
— Ложись-ка ты, девка, спать, — сказала я тихо. — Отдых — вот что тебе перво-наперво требуется.
Она все так же сидела и стонала.
— Перестань ты терзать себя! — говорю ей. — Какого ты совета ждешь от своей старухи тетки, когда я и в толк-то не возьму, о чем ты говоришь! А только одно я тебе скажу: негоже этак-то казнить себя, не то вконец изведешься. Ежели работа тебя доконала, значит, работу надобно подыскать другую. Трудиться человек должен с охотою — это главное. И раз ты ни в чем закона не преступила, значит, тебе и бояться нечего. А вот работа всегда должна быть на первом месте. Возьми хоть меня, к примеру: я тоже всю жизнь работала не покладая рук, с одним делом управишься, а сама смотришь, за что дальше браться, и передышки себе не даешь ни на минуту. Как в огороде все переделаю и живность свою обихожу, то за штопку или починку белья принимаюсь. Человек должен делом себя занять, а не забивать голову ерундой разной. Замуж тебе пора, детишек бы нарожать и жить как положено…
— А как положено? — вскинула она на меня глаза.
— Как все люди живут! — У меня лопнуло терпение. — Как твои родители жили, как мы с твоим дядей Дюлой жизнь прожили. Уж и не знаю, чего тут объяснять!
— Пойду я, — заявила она и встала.
Я чуть затрещину ей не влепила: против истерики первое средство.
— Тогда зачем ты явилась, если часу побыть не желаешь? — вырвалось у меня сгоряча.
Эдит стояла передо мною, и я видела, как глаза ее наполнились слезами. Жалко мне ее стало.
— Я помнила, что у вас мне было хорошо… Здесь мне всегда было так легко!
— Э-э, милая, это когда было… — сказала я и сама расчувствовалась, припомнив прежние годы, когда муж мой был жив; Эдит тогда жила у нас, ходила в здешнюю школу. Своих детей у нас не было, и какое-то время мы жили одной семьей, Эдит нам была как родная дочь.
— Ужинали мы в саду под яблоней… Я собирала смородину с кустов, мыла у колодца, а потом мы посыпали ее ванильным сахаром.
— Вишь ты, как тебе все хорошо запомнилось! — сказала я, чуть успокоившись. — Вот и останься у меня хоть на несколько дней, обо всем с тобой потолкуем, старое житье вспомним. Идем, постелю тебе…
Она кивнула. Я прошла в комнату, достала из шкафа чистое белье. Дождевые капли барабанили по стеклу, гроза, правда, утихла, но дождь, похоже, перешел в обложной. Завтра, пожалуй, и в сад не выйдешь. Ну ничего, достану шкатулку с фотографиями, и будем с ней разглядывать старые снимки. Найдем себе какое-нибудь занятие. Я постелила ей на диване; у простынь был чуть лежалый запах, его даже лавандой не отобьешь. Я распахнула окно, пусть комната проветрится на ночь.
— Эдит! — крикнула я. — Иди в комнату! Ты только взгляни, как цветы разрослись! — Я помнила, что прежде она очень любила цветы, а у меня ими всегда была комната заставлена: аспарагус, фикус, пальма, филодендрон, дерево жизни, кактусы разные — и на столе, и на специальной подставке, и даже на шкафу стояли, — Эдит, слышишь, что говорю?
Никакого ответа; я вышла в кухню. Наружная дверь была распахнута настежь и хлопала на сквозняке, ветром захлестывало дождевые струи, у порога натекла целая лужа. Эдит и след простыл. Кошка с котенком кинулись ко мне, принялись ластиться, а пестрый котенок подол царапает, на руки просится. Сумки ее тоже нигде не видать было. Я встала в дверях, окликнула ее несколько раз, да так и не дождалась ответа. Долго стояла я, все звала ее, а дождь поливал мне на голову и плечи.
Потом уж я отступилась и дверь за собой захлопнула. Вода от порога растеклась по каменному полу. Я подтерла лужу тряпкой. Кошка с котенком, отталкивая друг друга, лезли мне под руку. Брысь, пошли! — шуганула я их тряпкой. Они отскочили в сторону, обиженные, улеглись у печки на козьей шкуре и стали вылизывать друг другу шерстку.
Когда я кончила вытирать пол, они уже спали, уютно прижавшись друг к дружке.
Я постояла еще какое-то время на кухне, подождала: вдруг да вернется Эдит.
И надеялась: сперва — что она вернется, потом — что ушла совсем.
Она не вернулась.
1972
Гляжу — стоит он у нас на дворе, в самом углу, там, где бы забору быть, только у нас его нету, тихонечко так стоит, не шелохнется, одна рука в кармане, другая плетью висит, будто простреленная, спиной ко мне стоит, левое плечо стволом ореха прикрыто, и одежда-то на нем серая такая, с корой сливается, к тому же смеркалось, ладно еще, глаз у меня острый, сразу его заприметила, хоть и стоял он как вкопанный, высматривал что-то там наверху среди деревьев и базальтовых скал, — в общем, я сразу смекнула, что он и есть тот самый человек. Кому и быть-то, как не ему. Я как раз от колодца возвращалась. Далековато это, да еще в гору, да с полным ведром, вот и запыхалась — тяжело нынче стало подниматься от колодца Банов к дому, однако тяжело не тяжело, а по воду ходить надо; мы-то, когда дом тут отстроили, стали было колодец бурить, потом и трубу ту испробовали, которую нужно только в землю вбить, и даже сквозь камни она проходит, а воды все нет и нет, так что бросили мы через месяц эту затею. Остался колодец Банов, там, у нижней дороги. Ну, только я его увидала, сразу поняла: он и есть тот самый человек. Увидала и будто к земле приросла, даром что на своем дворе, да и не стемнело еще, а только смеркалось, потому как осенью в такое ненастье смеркается рано. Вообще-то я женщина не робкого десятка, привыкла тут, на горе, не пугаться всякого захожего люда, только о нем, об этом-то, уж столько всякого наслышалась, что подумала: не ровен час, набросится еще на меня. Поставила я ведро на камни у края виноградника — так, чтоб погромче звякнуло, и гляжу, нет ли где под рукой доброго кола, на случай, если человек этот злодейство какое на уме держит.
Читать дальше
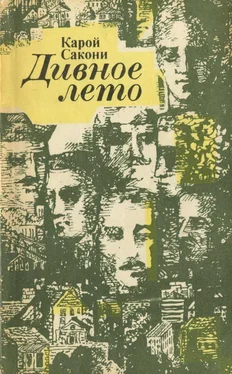



![Елизавета Магнусгофская - Не убий - Сборник рассказов [Собрание рассказов. Том II]](/books/389585/elizaveta-magnusgofskaya-ne-ubij-sbornik-rasskazov-thumb.webp)