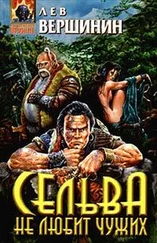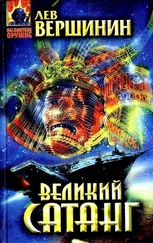Ну, ладно. Я много раз ходил после этого к Ли — то за договором, то за задатком, то еще за чем-нибудь, и во время одного из этих посещений она сказала, что хочет нарисовать мой портрет, потому что у меня, видите ли, римский тип — такое лицо чистокровного римлянина нечасто встретишь. Так я начал ей позировать и имел возможность лицезреть ее, так сказать, в домашней обстановке. Ли была страшная неряха, и очень скоро квартира моя превратилась в настоящий хлев. Все вещи были разбросаны по полу; чего тут только не валялось — чулки и листы картона для рисования, футляры от губной помады и книги, по одной туфле от каждой пары, иллюстрированные журналы, бюстгальтеры, коробки с карандашами. Рисовала она не стоя у мольберта, как все художники, а ползая на четвереньках вокруг разостланного на полу холста. Дома она всегда разгуливала в длинном халате из какой-то мешковины, напоминающем ночную рубашку, и имела привычку ходить босиком, из-за чего подошвы и пятки у нее вечно были красные от краски, которой был покрыт выложенный кирпичом пол. Кроме того, она за день выкуривала уж не знаю сколько сигарет, оставляя везде, где только можно, вымазанные губной помадой окурки, и не помню случая, чтобы рядом с ней не стоял стакан, наполненный чем-нибудь весьма крепким: Ли к нему прикладывалась после каждого взмаха кисти. Я не слишком разбираюсь в живописи, но у меня создалось впечатление, что Ли не столько была, сколько притворялась художницей, играла выбранную роль, как, впрочем, ведут себя все женщины — о них вопреки пословице можно сказать, что именно ряса делает монаха. Одним словом, для нее важнее всего было не то, что она писала — или не писала — на полотне, а ее хламида, босые ноги, руки, испачканные краской, весь этот хаос, сигареты, алкоголь.
Так продолжалось некоторое время: я, забросив свой магазин, приходил позировать, она меня рисовала, потом стирала нарисованное, потом начинала снова, и портрет не двигался с места. Признаюсь, я не имел ничего против этой ее медлительности, потому что постепенно и почти сам того не замечая влюбился в Ли. Подумать только: у меня красивая жена — Матильда, моложе ее лет на десять, и все же Ли нравилась мне больше и по сравнению с Матильдой была как изысканное блюдо в ресторане после домашней булки, хотя и сдобной. Впоследствии я не раз задавался вопросом, почему мне так нравится Ли, и пришел к такому выводу: моя Матильда — обычная женщина, в детском возрасте она была девочкой, в молодости — девушкой, а потом — женщиной; Ли же, превратившись в женщину, осталась девочкой. И поэтому, когда я думал, что разговариваю с женщиной, вдруг вместо нее появлялась девочка, наивная и невинная, а когда я полагал, что говорю с девочкой, передо мною представала женщина, опытная и лукавая. Такое странное сочетание щекотало мне нервы, как нечто противоестественное, как какое-то чудо; это было неизведанное ощущение новизны, которое мне никак не удавалось прочувствовать до конца и всякий раз хотелось испытать вновь.
Однажды поднимаюсь я к Ли, вхожу без стука (входная дверь у нее всегда настежь, точно она живет в Колизее), и кого же, вы думаете, я у нее застаю? Ли, в своем халате и босиком, как обычно, сидит на полу, склонившись над полотном, а вокруг развалились в креслах трое парней, которых на виа дей Коронари и в окрестных улочках все хорошо знают как бездельников, разгуливающих на свободе только потому, что у полиции руки не доходят до них. Это люди, испробовавшие все профессии, но ничего не умеющие, игроки в шары и завсегдатаи окрестных баров: Марио, прозванный Мавром за смуглое лицо, лиловые губы и черные как уголь глаза, Алессандро по прозвищу Малолитражка, потому что он маленького роста, и Ремо, которого неизвестно почему окрестили Волчонок. Сказать по правде, я не слишком обрадовался, увидев их: во-первых, потому, что мне хотелось побыть с Ли наедине, а во-вторых, я не ожидал, что она пускает в дом такую публику.
— Гора с горой не сходится, а человек с человеком встретится, — сказал я сдержанно. А они сразу заметили, что я недоволен.
— Приветик, Альфредо.
Ли, не поднимая головы от холста, проворковала:
— Разве вы знакомы?
— Еще бы! — ответил я в сердцах. А они хохочут.
— Синьорина, у нас в Риме все приятели.
Так начались для меня черные дни. Правда, я продолжал позировать Ли — она никак не могла закончить портрет, — но теперь, придя к ней, непременно заставал там этих троих и еще других типов из той же породы. Где она их подбирала — неизвестно, может быть, они друг от друга узнавали ее адрес. Все эти парни, то и дело перебрасываясь злобными взглядами, лениво обсуждали свои дела, курили и потягивали вино, словно в баре на углу или в фойе спортивного клуба. Я же все надеялся, что рано или поздно они уйдут, и, дрожа от нетерпения, то и дело вскакивал и бегал по квартире или со вздохом смотрел на часы. Они, конечно же, все прекрасно понимали и назло мне просиживали допоздна, а ничего не замечавшая Ли, скорчившись на полу, продолжала малевать кистью по холсту. В конце концов я уходил первый, потому что я — единственный семейный человек из всей компании. Охваченный ревностью, задыхаясь от злобы, я возвращался домой, где меня далеко не ласковым словом встречала Матильда, которая теперь уже прекрасно знала, куда и зачем я хожу. И хоть бы Ли сама дала мне как-нибудь понять, чтобы я к ней больше не ходил, но она вела себя словно легкомысленная девчонка — впрочем, такова она и была, неожиданно подавала мне надежду именно в тот момент, когда я уже был близок к отчаянию. Однако, к сожалению, она подавала надежду не мне одному, а понемножку и всем остальным.
Читать дальше
![Лев Вершинин Два веса, две мерки [Due pesi due misure] обложка книги](/books/134690/lev-vershinin-dva-vesa-dve-merki-due-pesi-due-mis-cover.webp)