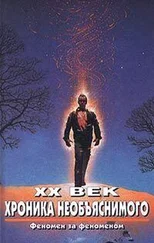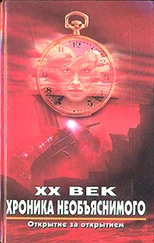Все друзья Модильяни свидетельствуют о его высокой культуре. Ее он унаследовал от своих близких, и в первую очередь от деда с материнской стороны, Исаака Гарсина, очень эрудированного человека, горячо любившего философию и искусство. До самой смерти деда в 1894 году молодой художник был связан с ним очень нежной и тесной дружбой. Скульптура пленяла Модильяни так же сильно, как живопись. В поездке по крупнейшим итальянским городам (это называлось тогда «большой тур») он открывал Италию для себя с восторгом и ликованием, достойным того восторга, который, должно быть, охватывал молодых художников-романтиков. Он написал тогда несколько писем, которые дают большую информацию о его душевном состоянии. Любопытство и ослепительные новые впечатления ускоряют его выздоровление. Он объявляет своему другу Гилье, что «собирает материал» – составляет для себя личный альбом и думает, что друг его унаследует. Дело в том, что Модильяни метит высоко. Опираясь на опыт великих мастеров, восхищаясь ими, он рассчитывает выполнить свой труд – создать то, что уже предчувствует и что готово расцвести в его душе. Идя по пути мастеров из Сиены и итальянских примитивистов, а также по пути великих классиков, он надеется достичь, как он пишет, «организованности и развития всех впечатлений, всех семян идей, которые он собрал в этой мирной тишине, словно в мистическом саду». В другом своем письме он говорит еще ясней: «Я сам – игрушка очень сильных энергий, которые возникают и угасают. А я хотел бы, чтобы моя жизнь была как очень мощная река, которая радостно течет по земле. Ты – тот, кому я могу сказать все. Так вот, я теперь богат, плодороден, и мне нужно творить. Я возбужден, но это оргазм, который предшествует радости, а после радости будет головокружительная и непрерывная деятельность ума». Неаполь, Капри, но, наконец, также Рим, который находится «не вовне, а внутри его самого и похож на ужасную драгоценность, укрепленную на своих семи холмах, как на семи властных идеях. Рим – это оркестровка, которой он окружает себя… окружность, внутри которой он изолирует себя и помещает свою мысль». В римском пейзаже молодой художник разглядел то, чем он восхищен в Риме, – «его лихорадочные ласки, его трагические поля, его формы красоты и гармонии – все эти вещи принадлежат ему через его мысль и творчество». Модильяни уже соединяет вместе классический Рим, например тот, что был у Пуссена, успокоившийся и платонически ласковый, и тот Рим, который воспринимает своими обостренными чувствами. В этом же экзальтированном лирическом письме он уже формулирует основной принцип своего искусства – быть между нежностью и трагизмом. Он хочет взять за основу те истины, которым научил его Вечный город, и «построить его заново». «Я почти сказал бы «метафизическая архитектура», чтобы создать из него мою правду о жизни, красоте и искусстве» [105], – уточняет он.
После смерти Модильяни нам осталось от него очень мало документов, потому что он был глубоко убежден в самодостаточности своего творчества. Что, когда эта поднявшаяся изнутри его красота раскрылась и возникла на холсте, больше нет пользы в том, чтобы описывать эти же впечатления словами. Отдыхая в Доломитовых горах, он пользуется свободным временем, чтобы снова написать Гилье, и в этом письме углубляет свою концепцию искусства. «Зачем писать в то время, когда чувствуешь? – объясняет он другу. – Это необходимые эволюции, через которые нам нужно пройти, и в них важна лишь цель, к которой они ведут. Поверь мне, лишь произведение, вынашивание которого завершено, которое обрело тело и освободилось от опутывавших его частностей, которые оплодотворили его и произвели на свет, лишь такое произведение стоит того, чтобы выразить и перевести его языком стиля» [106]. Здесь очень четко видна метафизическая, духовная сторона искусства. Модильяни хочет писать не внешность, а глубину душ и темный сумрак, в котором все же возможен свет. Но, чтобы этого достичь, нужно идти очень далеко и спускаться очень глубоко. Меры предосторожности, которые он принимает, чтобы достичь света, говорят о его величайшей искренности и художественной чистоте: никаких хитростей, никаких уступок, никаких легких путей. Тут нужны терпение в пути, слепое послушание, мужество, чтобы ничего не торопить. Он назвал это «вынашиванием» и предавался этому труду не без волнения, считая, что его немногие наброски, записные книжки с рисунками и несколько картин, написанных в то время, – всего лишь попытки, хрупкие недолговечные дорожки, которые не имеют ничего общего с тем, что он предчувствует о себе и в себе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу