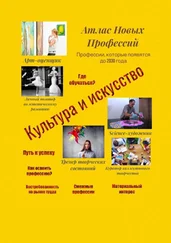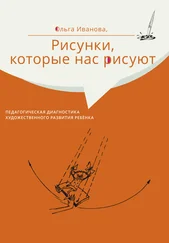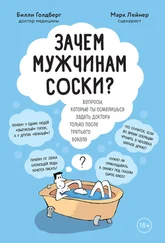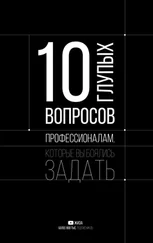Своего мужа, гениального художника Диего Риверу, она избрала себе еще в подростковом возрасте, разглядев свою судьбу в небрежно одетом толстяке средних лет, расписывавшем актовый зал ее школы. Позднее безо всяких угрызений совести она изменяла своему Диего (который, в сущности, тоже не был образцом добродетели) и с Троцким, и с Меркатором, и с кучей прочих любовников и любовниц.
У нас не любят откровенность, доходящую до мазохизма, а именно в такой форме Кало и рассказывает о себе в своих картинах. Конечно, XX век вознес на пьедестал художника как создателя своего собственного, индивидуального стиля и своего персонального и ни на что не похожего художественного языка. Но только Кало сделала основой своего искусства автопортрет, а все свое творчество посвятила рассказу о себе, своей боли, своих переживаниях, страданиях, страстях и разочарованиях.

ФРИДА КАЛО. БОЛЬНИЦА ГЕНРИ ФОРДА (ЛЕТАЮЩАЯ КРОВАТЬ). 1932
К тому же ее картины невозможно читать, не зная соответствующей символики – латиноамериканской, мексиканской и ацтекской, с их культом смерти, которому посвящаются особые праздники, с их постоянным возвратом к великому прошлому доколумбовой Америки и параллельно с этим к экстатическому и мистическому восприятию католицизма.
Кало была подчас циничной и вызывающей и в жизни, и в своих картинах, но, по большому счету, имела на это полное право. Когда ей было 18 лет, Кало пережила аварию с трагическими последствиями: автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем, и девушка получила тяжелейшую травму. Она сама говорила, что катастрофа с трамваем навсегда изменила ее жизнь и лишила девственности, имея в виду, очевидно, не только чисто физиологические моменты (действительно, железный прут пронзил тело Фриды насквозь от шеи до паха, повредив позвоночник и внутренние органы), но и то, что после этого она уже не смогла бы прожить обычную жизнь молодой девушки из приличной семьи.
Несколько месяцев, которые Фрида провела в постели, восстанавливаясь после катастрофы, сделали ее художницей, и уже одно это свидетельствует о необыкновенном таланте Кало, ведь раньше она брала в руки принадлежности для рисования только на школьных уроках.
Ее картины стали ее спасением, поскольку в них можно было выплеснуть боль, рассказать о неудачных операциях, об абортах, показать свое изуродованное тело. И это уже не казалось уродливым, а становилось прекрасным, становилось объектом искусства, становилось легендой.
В России вплоть до конца XIX века художницам была уготована участь талантливых дилетанток. И Елена Поленова(1850–1898), сестра известного художника Василия Поленова, и Софья Кувшинникова(1847–1907), прототип героини из известного рассказа А. П. Чехова «Попрыгунья», так и не поднялись до уровня своих знаменитых современников. К тому же для женщин была закрыта Академия художеств, они могли появляться там только в качестве вольнослушателей, но не обучаться на постоянной основе, поэтому художественное образование в России женщины могли получать только частным образом. Но к концу XIX века ситуация несколько изменилась в лучшую сторону, появились частные мастерские и художественные школы, принимавшие учениц.
В итоге в России рубежа веков появилась целая плеяда талантливых и оригинальных художниц. Первое место среди них, конечно, заняли пресловутые «амазонки» русского авангарда: Наталья Гончарова, Любовь Попова, Елена Гуро, Ольга Розанова, Надежда Удальцова, Александра Экстер и др. Но были в их числе те, кто предпочел идти собственным, хотя и более традиционным, путем, как, например, Зинаида Серебрякова и Анна Остроумова-Лебедева.
Зинаида Серебрякова(1884–1967), урожденная Лансере, как это ясно по фамилии, родилась в семье архитекторов и художников. В Академии она учиться еще не могла, поэтому получила образование в мастерской художника О. Браза, а затем в Париже. Писала пейзажи и портреты, жанровые композиции – бытовые и посвященные сельской тематике, а также делала монументальные росписи, например для оформления Казанского вокзала в Москве. После революции жила во Франции.
Анна Остроумова-Лебедева(1871–1955) училась в знаменитом Центральном училище технического рисования барона Штиглица в Санкт-Петербурге, в Петербургской академии художеств, а затем в Париже, в мастерской самого Джеймса Уистлера. Занималась в основном графикой, работала в технике гравюры на дереве, акварели, литографии. Считается, что именно Остроумова возродила в русском искусстве технику цветной ксилографии как самостоятельного вида искусства. Ее излюбленная тема – виды Петербурга (Ленинграда) и его окрестностей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
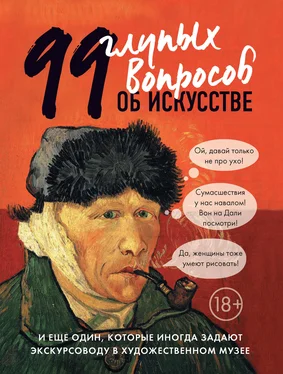

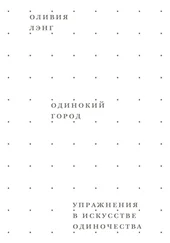
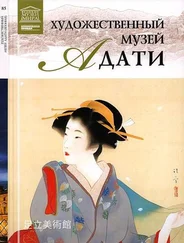

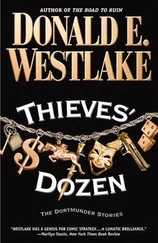
![Марк Лейнер - Зачем мужчинам соски? [Вопросы, которые ты осмелишься задать доктору только после третьего бокала] [litres]](/books/389622/mark-lejner-zachem-muzhchinam-soski-voprosy-kotory-thumb.webp)