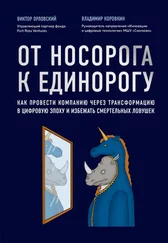Сама формулировка: сеть «хочет» чего-то – является метким олицетворением: миллиарды соединенных пользователей хотят быть соединенными – появляется Facebook. Триллион веб-страниц хотят, чтобы их искали, – появляется Google. Осуществление таких связей прежде всего создает те ужасные разрушительные процессы, что были описаны в прошлой главе, что объясняет уникальную силу (и ценность) лидирующих фирм нашего времени. Однако коль скоро эти связи осуществляются, концентрация коммуникаций создает предпосылки к возникновению чего-то еще. Она хочет творить. Именно по этой причине самые успешные инвесторы и лидеры нашего времени горят почти болезненным желанием рушить и ломать старые системы. Они убеждены, что если они достаточно мощно замахнутся, чтобы уничтожить одно равновесие, то новое равновесие сразу же возникнет на месте старого.
Они правы. Их правота подкрепляется всеми законами физики и истории. В сфере коммерции разрушение старых бизнес-моделей способствует появлению новых. В терроризме нарочитое насилие более действенно, чем сдавленная злоба; это средство ускорения хаоса и, как некоторые надеются, новой политики. Если Седьмое чувство включает в себя сознательное желание (и даже нетерпение) расшатать старое равновесие, то это только из-за той убежденности, что что-то лучшее обязательно возникнет.
В свои преклонные годы Бэран, рассуждая уже более философски, пришел к тому, что его сети, распространяющие себя по всему миру с такой плавной и неудержимой энергией, были неизбежны. «Каждый предмет во Вселенной, – писал он как-то, – связан (по гравитационным/радиационным векторам) с любым другим». Сейчас мы знаем, насколько правдивы эти слова. Нас притягивает к сетям словно гравитацией. Коммуникации означают комплексность. Это означает эволюцию. Эта странная кривоватая фраза Бэрана – «по гравитационным/радиационным векторам» – говорит о многом. Коммуникации неизбежны. В результате мы получаем эволюцию. И немного хаоса.
В которой Седьмое чувство выявит скрытую опасную архитектуру сетевых коммуникаций.
Это было мое второе путешествие за границу. Я прикрыл глаза, провожая европейский закат, и проследовал в самолет. Мы полетели в Амстердам. Я сменил композицию в плеере. Хотелось чего-нибудь пободрее. Питер Гэбриэл. Это был 1993 год. Август.
Той весной я услышал о планах организовать большую хакерскую конференцию в окрестностях Амстердама. Ее назвали «Хакеры на краю вселенной». Меня это сразу заинтересовало. Я тогда только перебрался в Нью-Йорк и потихоньку осваивался в тамошней хакерской сфере. Сфера эта была не столько кипящим ульем, в котором то и дело происходила всякая заваруха, сколько просто группой компьютерщиков-любителей, любопытствующих зевак и ранних IT-инженеров, собиравшихся иногда после работы в подвале здания Сити Корпорэйшн на 53-й улице и в Лексингтоне, чтобы обсудить различные трюки в цифровых системах. Хакерство не содержало негативного смысла в то время; большинство людей, разбирающихся в технике, понимало его как естественное продолжение интереса к компьютерам. В Интернете тогда было 35 миллионов пользователей. Идея о том, что спустя два десятилетия он объединит более 3 миллиардов человек или что он будет приносить миллионы долларов некоторым людям в этом самом подвале, казалась, честно говоря, немыслимой.
Священным писанием этой группы была тоненькая, кое-как склеенная ксерокопия журнала, выпускаемого на Лонг-Айленде парнем, взявшим себе псевдоним Эммануэль Голдштейн в честь героя романа «1984» Джорджа Оруэлла. Журнал назывался «2600: еженедельник хакера», в нем публиковались идеи для всяких трюков со всевозможными системами: от консолей Atari до дверных замков. Название журнал получил от одного из самых ранних хаков, о которых мы, члены этих небольших сборищ, знали: известного трюка 1970-х годов, предполагавшего использование звукового сигнала на частоте ровно 2600 герц (примерно как у сигнала обратного хода грузовика) для переведения аппаратуры AT&T в «режим оператора», который позволял телефонным хакерам – их называли «телефонными взломщиками» – совершать любой телефонный звонок бесплатно. Хак не имел никакой иной практической пользы, кроме возможности звонить в любую точку мира бесплатно. А когда овладеваешь этим трюком, понимаешь, что в Мумбаи некому и незачем звонить.
Реальный прикол, удовольствие от подобной игры было в другом. Возня с телефоном и сопровождающие ее звуки, издаваемые системой, создавали ощущение тайного доступа, чувство контроля над самой большой телефонной сетью на Земле. В какой-то момент телефонный взломщик по имени Джон Дрейпер обнаружил, что маленькие пластиковые свистки, которые клали как игрушки в коробки сахарных хлопьев Cap’n Crunch, почти идеально воспроизводили 2600-герцовый звук. Этот хак сделал его легендой, впоследствии его вторым именем стало прозвище Cap’n Crunch (Кэп Кранч). Статья о Дрейпере в выпуске Esquire 1971 года вдохновила двух юношей, которых звали Стив Джобс и Стив Возняк (окружение его звало кратко – Воз), на создание их первой компании для изготовления и продажи маленьких синих коробочек для несанкционированных телефонных звонков. Воз потом вспоминал, как волнительно было встретить Кэпа Кранча одним калифорнийским деньком. Странный, эмоциональный, слегка пахнущий, бродячий инженер. «Я делаю это по одной-единственной причине, – буркнул однажды Кэп одному автору статьи в Esquire, который был несколько озадачен тем, что взрослому мужчине придется свистеть в телефоны. – Я изучаю систему. Телефонная компания – это Система. Компьютер – это Система. Понимаете? Я делаю это только для того, чтобы исследовать Систему. Компьютеры. Системы. В этом состоит смысл, – говорил он. – Телефонная компания – есть не что иное, как компьютер».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


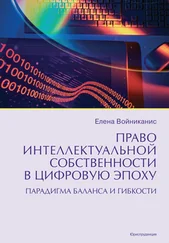
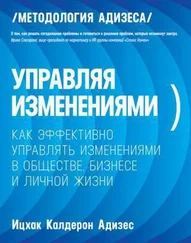
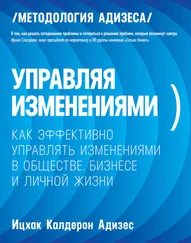
![Владимир Коровкин - От носорога к единорогу [Как провести компанию через трансформацию в цифровую эпоху и избежать смертельных ловушек] [litre](/books/393888/vladimir-korovkin-ot-nosoroga-k-edinorogu-kak-pro-thumb.webp)