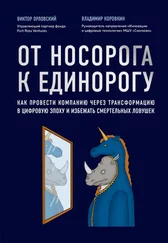Эта концепция обесценила многие предыдущие доктринальные постановления. Церковь моментально почувствовала угрозу. Она поспешно заклеймила Лютера как еретика, а затем – как умалишенного. Отстаивая то, что католическая церковь со всеми ее завораживающими ловушками веры была не более чем бесполезным заведением, основная специализация которого состояла в поборах, Лютер также пытался найти ответ на вопрос: «Как лучше распределять власть?» Если Лютер был прав, и Бог действительно стремился сделать веру настолько доступной для нас, то поверх этого нагромождались новые вопросы. Можно ли нам иметь прямой доступ к политической власти? К идеологии? К деньгам, земле и контролю над собственным экономическим состоянием? Можно ли утверждение «от человека к человеку» интерпретировать как «от от идеи к идее», «от правды к правде» или – и это покажется еще более смелым – «от гражданина к гражданину»? Церковь была лишь одним из многих институтов, восседавших прочно, надежно, комфортно (и жадно) между людьми и властью.
Лютер, позже выяснилось, был не один. Началась эра трудных вопросов и ответов. Польский астроном Николай Коперник, например, опередил Лютера на несколько десятков лет со своим собственным набором новейших идей. «Те, кто знают, что долгие столетия имела право на существование идея о том, что Земля, находясь в состоянии покоя, является центром Вселенной… сочтут меня сумасшедшим, если я скажу, что это не так», – писал он. Макиавелли, Галилей, Эразм и многие другие мыслители трудились с тем же вопрошающим настроем. Их «сумасшедшие» заявления, находя подтверждение, открывали дорогу к еще большим открытиям. Началось Просвещение. Старые центры власти вели себя как ни в чем не бывало; возможно, искренне веря, что менять ничего не имеет смысла. «Этот собор объявляет, что любой несогласный с его положениями будет проклят», – убедительно провозгласила католическая церковь на Тридентском соборе в 1547 году в ответ на реформаторские взгляды Лютера. Но пути назад уже не было. Как написал немецкий философ Иммануил Кант, девиз эпохи можно было представить таким: «Имей мужество пользоваться собственным умом!» «Просвещение, – писал он, – не требует ничего, кроме свободы».
Это, как оказалось, было чертовски дорогостоящим требованием.
Спустя годы после «95 тезисов» Европу разорвало на части. Устоявшийся образ власти – сконцентрированной и несомненной – рассыпался. Возник новый образ. Идея личной связи с Господом, подход к религии по образу «один человек, одна молитва», – все это вызвало тяжелейшие потрясения. Авторитет почти любого почитаемого лица и института, существующего за счет контроля над людьми и их решениями, – церкви, королей, феодализма, мифов – стремительно падал. «Знание – сила», – писал в своей взрывоопасной книге «Новый органон» английский философ и государственный деятель Фрэнсис Бэкон. Смысл его слов состоит в том, что человеческое знание является силой человечества. Легко представить, какую энергию, какую надежду заключала в себе эта книга, которая на латинском языке была передана сначала Кеплеру в его рабочий кабинет в Линце, а затем – необыкновенно обрадовавшемуся Галилею, в Венеции, за десять лет до его заключения. Этот вопрос о силе человечества – то, что вдохновляло ликующие народные массы Европы эпохи Просвещения, разрывающие основы старых структур. Первым последствием ереси Лютера стали войны Реформации, битвы, втянувшие все европейские королевские семьи в распрю между церковью и государством, а затем – в распрю между собою. Кровопролитная Тридцатилетняя война, первый вооруженный конфликт, охвативший всю Европу, оставила после себя новый порядок, при котором каждый король мог сам избрать веру своих подданных. «Cuius regio, eius religio» («Чье королевство, того и вера»), – было решено в Вестфальском мире 1648 года. Договор принес некоторую стабильность, правда, ненадолго. Ведь эту фразу можно наделить любым смыслом, исходя из своих интересов, и извратить ее до такого вида: « мое королевство, моя вера».
В каком-то смысле это революционное брожение умов было необходимо для того, чтобы перевести власть от сытого, благоустроенного асимметричного порядка, при котором несколько людей контролировали так много, к чему-то более симметричному . Реформаторские воззрения Лютера сделали Бога прямо и непосредственно доступным для любого. (Прямо как научные воззрения Коперника сделали возможным сомневаться в Боге как таковом.) Индивидуумы могли спорить на равных. В действительности, важное понятие о том, что все «созданы равными», становилось все более очевидным с каждым новым поколением, однако установление этого равенства спровоцировало Великую французскую революцию, Гражданскую войну в США и нескончаемый поток национально-освободительных войн.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


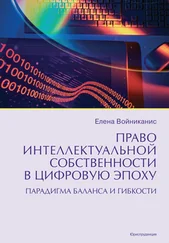
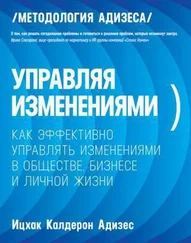
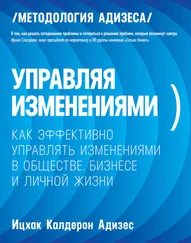
![Владимир Коровкин - От носорога к единорогу [Как провести компанию через трансформацию в цифровую эпоху и избежать смертельных ловушек] [litre](/books/393888/vladimir-korovkin-ot-nosoroga-k-edinorogu-kak-pro-thumb.webp)