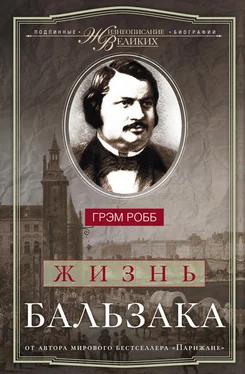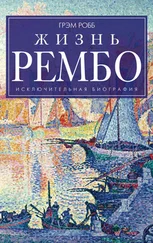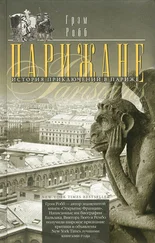Третья дискуссия, которая связана с переходом Бальзака в вечность, похожа на списки, которые он пытался вести при жизни. Так, он перечислял все свои женские персонажи, разделяя их, наполовину в шутку, на добродетельных и порочных и показывая, что первые перевешивают последних 1238. Тогда никто ему не поверил и не понял иронии. Его романы ассоциировались с проблемами и тревогами конца века: смертью литературы и закатом человеческого рода. Говорили, что молодых людей двигает к бессовестной охоте за приданым самый «бальзаковский» из всех бальзаковских персонажей: «Какие души были раздавлены ногами этого великана! Сколько потонуло, барахтаясь в тине, в которой они собирались утопить страницу, вырванную из какого-нибудь тома “Человеческой комедии”»! 1239Бальзак был созвучен веку, который он так и не узнал. Особое значение придавали его теории, что в основе всех человеческих поступков лежит сила воли. Ницшеанский Бальзак, воплощенный в статуе Родена – образ в образе, – обладал не меньшей силой, чем любая критическая статья.
Когда в 1876 г. опубликовали его «Переписку», откровения «настоящего» Бальзака вызвали новый прилив интереса к нему. Первую четверть века после смерти Бальзак пользовался у читающей публики меньшей популярностью, чем Эжен Сю, Дюма и Жорж Санд; впоследствии продажи его романов выросли, значительно превзойдя его бывших соперников. «Человеческая комедия» стала классикой, в чем отчасти выразился более современный взгляд на роман. Когда же в 1894 г. начали выходить «Письма к чужестранке» (Эвелине), Бальзака окружил нимб романтического героя. И все же чего-то не хватало. С самых юных лет Бальзак как будто больше заботился о личной славе, чем об оттачивании мастерства, и сама «Человеческая комедия» стала весьма «неклассической» классикой: океаном цинизма и отвратительных подробностей с крошечными островками респектабельности вроде «Евгении Гранде». Сложилось впечатление – и не только во Франции, – что Бальзака в самом деле следует причислить к великим писателям, возможно, назвать величайшим романистом в мире, но в идеале величайшим романистом должен стать кто-то другой.
«Человеческая комедия» раскрывалась в своем полном объеме постепенно, медленно и не с помощью идеологической борьбы, но благодаря огромному, поистине отеческому влиянию Бальзака на других писателей – особенно на тех, которые также подвергались цензуре и тяготели скорее к эстетическим, чем к нравственным критериям. Бодлер видел в Бальзаке идеальный вариант самого себя 1240; Достоевский в двадцать два года перевел «Евгению Гранде» 1241; «Воспитание чувств» Гюстава Флобера можно в каком-то смысле считать романом Бальзака, прочитанным задом наперед. Для Флобера, как для Генри Джеймса, Бальзак олицетворял двусмысленную фигуру отца – несносного, восхитительного и странно напоминающего Бернара Франсуа Бальзака, каким его видел собственный сын. «Каким он мог бы быть писателем, умей он писать! – писал Флобер. – Но именно этого ему недоставало. В конце концов, тогда он не поднялся бы до таких высот и не обладал бы такой шириной» 1242.
В англоязычных странах к романам Бальзака подходили в хирургических перчатках (восторженные комментарии Элизабет Баррет Браунинг о его «немецкой руке» и «итальянской душе» – исключение) 1243. Его сваливали в одну кучу с другими «отталкивающими» французскими романистами – Дюма, Сю и Гюго 1244. Шарлотта Бронте говорила миссис Гаскелл, что после романов Бальзака «у нее во рту остается дурной привкус». Джордж Элиот называла «Отца Горио» «отвратительной книгой» 1245, что, возможно, легло в основу интересного труда о противоположных толкованиях понятия «реализм». Наряду с безнравственностью Бальзака порицали его «неряшливый стиль» (считалось, что французские писатели пишут «ясно»), его ненасытный интерес к жестоким подробностям, его мелодраматизм и нездоровое влечение к сверхъестественному, то есть именно то, что позже так привлекало в нем У.Б. Йейтса. Судя по комментариям, которые автор слышал при написании данной книги, Бальзак так до конца и не избавился от ауры порочности, хотя в наши дни ее считают скорее очком в его пользу.
Между концом XIX в. и Второй мировой войной англоязычный Бальзак развился в любопытного гибрида. «Невразумительный Шекспир» 1246; реалист, который придавал вид реальности тому, что было явной неправдой 1247; бесталанный гений 1248; «грубый, огромный бродячий дух» 1249; «гигантский гном» 1250. Более сочувственные голоса зазвучали в 80-х гг. XIX в.: Суинберн, Оскар Уайльд и Генри Джеймс написали о Бальзаке очерки, которые, наверное, могут считаться вершиной отзыва одного писателя о другом. Их замечания проложили дорогу большому количеству переводов, нашедших кульминацию в величественном «кэкстонском» издании «Человеческой комедии», вышедшем в 1899 г., к столетию со дня рождения Бальзака 1251.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу